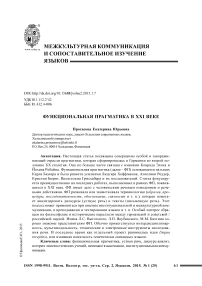Функциональная прагматика в XXI веке
Автор: Протасова Екатерина Юрьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 1 (25), 2015 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена совершенно особой и завораживающей отрасли прагматики, которая сформировалась в Германии во второй половине XX столетия. Она по больше части связана с именами Конрада Элиха и Йохена Ребайна. Функциональная прагматика (далее - ФП) основывается на идеях Карла Бюлера и была развита усилиями Людгера Хоффманна, Ангелики Реддер, Кристин Бюриг, Вильгельма Грисхабера и их последователей. Статья фокусируется преимущественно на последних работах, выполненных в рамках ФП, появившихся в XXI веке. ФП имеет дело с человеческим речевым поведением и речевыми действиями. ФП развивала или заимствовала терминологию, которая помогает анализировать дискурсы (устную речь) и тексты (письменную речь), такую как образец, процедура, последовательность, обоснование, связность и т. п. Этот подход может практически применяться при анализе институциональной и межкультурной коммуникации, в преподавании и тестировании языков и т. п. Особый интерес обращен на философские и исторические параллели между германской и советской / российской наукой. Имена Л.С. Выготского, Л.П. Якубинского, М.М. Бахтина хорошо знакомы представителям ФП. Обычно приветствуется интердисциплинарность, мультимодальность, технические и электронные инструменты инструменты исследования речи. В последнее время отдельный проект занимался идеей lingua receptiva, или взаимной понятностью генетически связанных языков.
Функциональная прагматика, устная речь, дискурс-анализ, история лингвистических учений, немецкое языкознание, институциональная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/14969842
IDR: 14969842 | УДК: 811.112.242 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.1.7
Текст научной статьи Функциональная прагматика в XXI веке
DOI:
Функциональная прагматика (см.: [1; 2]) представляет собой определенное и достаточно влиятельное направление в германской лингвистике, связанное в первую очередь с именами К. Элиха и Й. Ребайна, развивавшееся в ФРГ начиная с 1970-х годов. Среди их учеников наиболее значительное место занимают А. Реддер, Л. Хоффманн, В. Грисхабер и К. Бюриг. Первое десятилетие XXI в. стало временем не только подведения итогов и передачи основных достижений следующему поколению ученых, но и уточнения концепций (см.: [13; 19]). Существенной особенностью функциональной прагматики является подкрепление теоретических положений эмпирическими данными, причем кросс-лингвистического характера. Стоит отметить, что сейчас в направлении функциональной прагматики исследуется и русский язык: среди докторантов много тех, для кого этот язык родной.
Базисной категорией в данной теории выступает речевое поведение, язык рассматривается как форма поведения, центральные категории которой – исторические предпосылки, взаимодействие в совместной деятельности и представление о достижении индивидуальных целей внутри социально значимых целей, например, в группах или институциях. Коммуникация представляет собой специфическую форму взаимодействия, в которой влияют друг на друга четыре компонента: речевая ситуация (P), языковые знаки (p), один или несколько говорящих или пишущих, один или несколько слушающих или читающих [15; 31].
Различают уровни речевого поведения. Процедура – минимальная единица речевого поступка, которая осуществляется в эллипсе, дейксисе, экспедиции (направляющих отсылках) или обратной связи (сигналах со стороны слушающего). Языковой поступок состоит из нескольких процедур, совершаемых участниками коммуникации. При устной коммуникации создается дискурс, текст возникает в отсроченной ситуации восприятия; и дискурсы, и тексты – это речевые действия. Сначала возникает указание на ситуацию (дейксис), в символическом поле осуществляется называние предметов, деятельности, свойств при помощи определенных частей речи. Этот процесс является ментальным достижением, когда говорящий активизирует у слушающего соответ- ствующее знание при помощи символа (слова, выражения, функционально организованных глаголов). В оперативном поле происходит обработка знаний, связываются различные типы знания, выбираются местоимения, артикли, наречия, отрицание; здесь же реализуется порядок слов, интонация, отбираются частицы в зависимости от выполняемых ими коммуникативных функций. В экспедитивном поле используются средства контакта со слушающим и влияния на речевые поступки; в нем важны модальность и междометия. В изобразительном поле находят отражение эмоции, настроения, атмосфера [20; 29].
ФП как лингвистическое направление основывается на идеях знаменитого языковеда и психолога К. Бюлера [7], в особенности на его представлениях о дейксисе и референции, принципиально помещая анализ речи в ситуацию речепроизводства. Кроме того, имеют значение положения Д.Л. Остина [4] о речи как деятельности и речевом действии как важнейшей категории анализа. Следует заметить, что, в отличие от исследований, осуществляемых в рамках конверсационного анализа, где материал «ведет» за собой исследователя, не ставящего глобальных целей, функциональная прагматика имеет больше общего с анализом дискурса, так как рассматривает мотивы, намерения и направленность речевых действий. В этом смысле функциональная прагматика ближе к отечественной теории речевой деятельности. Именно это обстоятельство послужило основой для того, чтобы немецкие ученые искали контакты с постсоветскими, поэтому и появилась книга, где ученые обеих стран пытались восстановить теоретические основы своих забытых предшественников.
Книга, изданная немецкими лингвистами К. Элихом и К. Менг, в переводе называется «Актуальность отторгнутого [или: вытесненного / отверженного / забытого]. Исследования по истории языкознания в ХХ веке» [11]. Книга долго и мучительно собиралась, издавалась, и рецензировать статьи сборника, возможно, не так важно, как важно показать, какой вклад внес вышедший труд в наши представления о развитии лингвистической науки в прошлом веке. Советская наука была тогда экзотическим явлением: некоторым вообще каза- лось странным предположить, что в СССР при наличии системы табу возможна гуманитарная мысль. С другой стороны, те, кто за железным занавесом имел возможность читать по-русски, вдохновлялись этими идеями, а иногда становились советологами и критиковали все советское.
Следует заметить, что авторы статей – ученые из Восточной и Западной Германии, США, России, Эстонии, Швейцарии, Австралии – по-своему решают, как и почему нужны сегодня идеи их предшественников.
Книга состоит из пяти разделов.
-
A: «Linguistics goes East»: Wider den Eurozentrismus der Indogermanistik (Лингвистика идет на Восток: против евроцентризма индогерманистики). Статья Х. Глюка посвяще-
- на И.А. Бодуэну де Куртенэ, новизне и своеобразию его теоретических методов, в том числе работам по фонологии и социолингвистике, приведшим к формированию новых идей в советской науке. К. Кларк называет «про-метеанской» лингвистику начала сталинского периода, когда языку отводилась такая важная роль в общественной жизни. Начало этому процессу было положено Л. Троцким, его продолжили продукционисты и Б. Арватов, требовавшие рационализации и упрощения языка для нужд рабочего класса. Подробно рассматриваются различные аспекты теории Н. Марра и ее своевременность в 30-е гг. XX в.; нельзя не отметить увлеченность Р. Лётцш: в продолжение темы марризма показала, как это учение подавляло научные представления об истории языка. Поскольку оно начало свой путь из провинциальных университетов, рассматривается лекция Марра в Баку; отдается должное мужеству Е. Поливанова, оказавшего сопротивление марризму вопреки всем остальным.
-
B: Kategorien im Schnittfeld von Philosophie, Psychologie und Sprachwissenschaft: Wahrnehmung – Vorstellung – Innere Rede – Verstehen – Bewusstsein (Категории на пересечении философии, психологии и языкознания: восприятие – представление – внутренняя речь – понимание – сознание). Здесь рассматриваются традиционные как для немецких, так и для российских гуманитарных наук понятия, связанные с психологией языка. К. Кноблох показывает, что представитель Вюрцбургской школы О. Зельц (1881–1943), считающийся сегодня одним из предшественников когнитивной науки, был ученым, соединявшим эксперимент и интроспекцию; сегодня кажется удивительным, что в качестве испытуемых выступали профессора психологии, дававшие свои комментарии по ходу опытов. Зельц пытался понять, как взаимосвязаны речь и мышление, как речь участвует в формулировании мыслей и процессе организации знания (см., например: [33]). Очень близкой по задачам к этой теории оказывается концепция «внутренней речи» Л.С. Выготского, раскрытая в сборнике статьей Т. Ахутиной; в отличие от своего германского коллеги Л.С. Выготский мало занимался описанием экспериментов, поэтому требуется понять, как современные исследо-
вания подкрепляют или опровергают высказанные им положения. Этот разбор делается на примере коммуникативного синтаксиса и семантики, в том числе на данных афазии. Ж. Фридрих выбирает для анализа труды трех ученых: Л. Выготского, В. Волошино-ва, К. Мегрелидзе, причем работам К.Р. Мег-релидзе (1900–1944; погиб в сибирских лагерях) уделяется преимущественное внимание, так как они меньше всего известны на Западе. Именно Мегрелизде начал заниматься социологией мышления (идеаторным содержанием сознания). Сравнивается также «внутренняя речь» у Выготского (синтаксис значений) и «несобственно-прямая речь» у Во-лошинова (знаковый подход к определению форм языка).
К. Бюлер в свое время оказался невостребованным: уехав от фашизма в США и потеряв потенциальную аудиторию, он продолжал писать по-немецки. В. Нотдурфт рассматривает термин «восприятие» как мыслительный образец для понимания его теории языка [7]; особо подчеркивается, что при анализе коммуникации должно быть учтено все зримое поле, в котором происходит управление и влияние говорящего на слушающего (а не только слышимое). М. Пятцольд сравнивает принцип абстрактивной релевантности Бюлера с концепциями релевантности 1970–1980-х годов. Согласно Бюлеру, знаки, несущие значение, должны способствовать тому, чтобы подлежащее восприятию должно принимать семантическую функцию необязательно во всей полноте своих свойств; возможно, к этому будут призваны лишь какие-то абстрактные моменты. Модель релевантности Шпербера – Вильсона [34], исходящая из грамматики, утверждает, что релевантным может быть только такое утверждение, которое имеет некоторый контекстуальный эффект в данном контексте. Этнометодологический подход Щеглоффа [32] выдвигает принцип условной релевантности, когда при организации разговора внимание говорящих направляется частными указаниями на ситуацию, в основе которой лежит обмен стереотипными репликами. Предложенное сравнение теорий, возможно, будет в пользу Бюлера, однако, с нашей точки зрения, его текст, очень «прилаженный» к немецкому языку, при переводе выглядит неоднозначным, что затрудняет его адекватное практическое применение.
-
C: Für eine andere Theorie von Sprache: Äußerung – Satz – Dialog – Kommunikation – Kultur (За другую теорию языка: высказывание – предложение – диалог – коммуникация – культура).
В начале этой части К. Менг исследует понятие высказывания у М. Бахтина и В. Волошинова: оба считали язык продуктом человеческой деятельности и указывали на необходимость изучения высказываний в составе взаимозависимого диалога. Менг связывает постоянно развивавшиеся идеи авторов с обстоятельствами их жизни и дает читателю четкую картину эпохи в аспекте лингвистического творчества. Выделяется положение о том, что грамматика и язык не могут быть целиком объяснены из коммуникации; последняя развивается исторически и выполняет социальные функции, состоя из взаимно ориентированных высказываний. Актуальность этого подхода видна в повороте лингвистики в прагматическую сторону, где бы она ни развивалась.
Лингводидактическое учение о теории немецкого предложения Э. Драха было опубликовано в Германии в 1937 г. [14] и считается идеологически сомнительным (в националистическом плане). Однако Н. Гутенбург показывает, что для Драха, ставшего одним из основателей науки о речепроизводстве, важной целью обучения языку была не грамматическая правильность, а осмысленное ре-чеупотребление в единстве производства и языкового содержания, и звуковой формы в функциональной зависимости от содержательной интенции, и планов предложения как схем или способов мышления для каждого конкретного речевого акта. Эти положения были усвоены и растворены в «Das Tor zur Muttersprache» («Ворота к родному языку») Л. Вайгербера [38]. В следующей главе, написанной Т. Наумовой, рассматривается проблема диалога в трудах А.А. Потебни, Л.П. Якубинского, Л.С. Выготского и М.М. Бахтина. Далее М. Хильдебранд-Нильсон сравнивает контекст употребления понятий «язык» и «общение» в работах Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева с целью выяснить, были ли позиции ученых связаны или разрозненны. Завершает этот раздел совместная статья М. Хольквиста, П. Тульвис-те и Д. Верча, посвященная понятию «культура» у Выготского и Бахтина: в противоположность многим другим культурологическим подходам оба мыслителя считали, что индивидуальная и коллективная культура должны находиться в постоянном напряжении.
-
D: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft: Zeichen – Tätigkeit – Handlung? (Основы общего языкознания: знаки – деятельность – действие?).
Статья К. Элиха посвящена тем аспектам теории языка К. Бюлера, которые касаются действия и знака и противоречат друг другу. Элих противопоставляет его судьбу удачным карьерам Карнапа и Якобсона, которые те сделали в США. Будучи психологом, Бюлер контактировал с Пражским лингвистическим кружком; Элих, ссылаясь на содержание работ и на записку Ш. Бюлер, предполагает, что, хотя теория Бюлера не вызвала большого интереса у пражан, Якобсон многое взял у Бюлера, не ссылаясь на него. С другой стороны, Бюлер противопоставляется Соссюру, повлиявшему на многие из его положений. В завершение Элих подчеркивает значение теории Бюлера для изучения анафоры и дейксиса, причем и в методологическом плане.
Д. Бэкхерст, специалист по теории деятельности, рассказывает о ее связи с сознанием и общением, о формировании и развитии основных понятий и уместности такого подхода в советское время. Возможно, это одна из наиболее вызывающих статей, поскольку теория рассматривается автором почти в отрыве от реальных произведений, лишь иногда с опорой на Э.В. Ильенкова. Философский подход заставляет вернуться к Декарту и показать, что коммунистам удалось обрисовать некартезианскую теорию мышления.
-
E: Wie kommt der Mensch zur Sprache? Modelle der Sprachaneignung (Как человек приходит к языку? Модели присвоения речи).
В данном разделе речь идет об овладении языком, и первой дана статья П. Кай-лера о концепциях Выготского, за которой следует расширяющая и дополняющая ее статья Б. Райманна о «пра-мы» (Выготский ссылается на немецкое понятие “Ur-wir” для обозначения единой общности матери и
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ребенка в младенческом возрасте) в соотношении с германской наукой о детской речи (К. и В. Штерны). Последней исследовательской статьей в сборнике является глава А. Реддер «Представление – понятие – символ: к концепции и следствиям у Выготского и Бюлера», где в качестве основного труда советского психолога по данной теме фигурируют его педологические работы; осуществлена попытка показать, что из высказанного обоими классиками подтвердилось в последние годы в экспериментальной науке.
В части F издания читателям предлагаются переводы на немецкий язык трех произведений: «О диалогической речи» Л. Якубин-ского, «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория» Е. Поливанова и «Проблема речевых жанров» М. Бахтина. Переводы снабжены бережными и компетентными комментариями К. Менг. Между отдельными статьями расположены портреты ученых, о которых говорится в исследованиях. Следует подчеркнуть, что данная публикация создавалась с любовью к истории языкознания и к тем людям, которые творили ее, невзирая на многочисленные бытовые трудности и духовные запреты и ограничения.
Для современного российского читателя представляет интерес, конечно, тот факт, что у германских коллег советская наука является материалом для исследования и сопоставления ее с немецкоязычными речевыми концепциями. Связи между учеными были гораздо сильнее в период до Второй мировой войны, когда и создавались основные рассматриваемые произведения. Они редко читаются ныне в полном объеме; система взглядов авторов вызывает, как правило, интерес не у тех лингвистов и психологов, которые ссылаются на обязательные для цитирования теории в самостоятельных исследованиях. Попытка вывести актуальность старых исследований напрямую для проведения новых исследований кажется менее значимой, чем подспудно находимые в них идеи для собственных идей. Возможно повторение экспериментов, если они хорошо описаны; возможна проверка теорий, если есть адекватные переводы их текстов; однако интеграция наиболее доступных пониманию большинства достижений все-таки уже произошла. Эти рассуждения не умаляют колоссального вклада авторов рассмотренного сборника в историю и теорию лингвистической науки.
Издательство «Вальтер де Грюйтер» выпустило трехтомник Конрада Элиха «Язык и языковое поведение» ([16]; «Sprache und sprachliches Handeln» можно было бы перевести и как «Речь и речевая деятельность», если бы эти термины не были закреплены за отечественной психолингвистической традицией).
В первом томе подчеркиваются специфические черты подхода, в частности несогласие с рассмотрением языка как изолированной системы, артефакта, созданного собственно лингвистической теорией. Напротив, пишет Элих, выполняя посреднические функции, язык встраивается в комплексное человеческое поведение и неотделим от него. Это означает новую концептуализацию языка как средства и результата поведения тех, кто взаимодействует между собой в коммуникации, и понимание индивидуального языкового поведения как социального в его соотнесенности с целью и образцом, а также, возможно, имеющимся на нем институциональным отпечатком. Единичное языковое действие (поступок) не должно быть описано изолированно, в частности без отсылки к сопровождающим его действиям (поступкам) или без сложной ментальной деятельности, которая ему предшествует, включается в него и следует за ним, причем нужно показывать поведение и говорящего, и слушающего. Таким образом, необходимо рассматривать функциональную прагматику еще и как языковую психологию и языковой анализ, она ориентирована на ин-тердисциплинарность. Такой подход простирается и на собственно структуру языка, который предстает не как природное явление, а как результат человеческой деятельности, решения проблем человеком. Носители языка, развивающие, сохраняющие и меняющие язык, упорядочивают определенным образом языковые средства, имеющиеся в их распоряжении, в соответствии с целями, которых нужно достигнуть. Результатом является структура языка. Категории и методы языковых исследований должны пройти проверку на соответствие языковым данным в зависимости от того, что можно и чего нельзя достичь с их помощью, и поэтому метод функциональной прагматики является конкретной герменевтической интеракцией между формированием гипотезы, анализом предшествующего знания исследователей, всегда потенциально или реально участвующих в процессе коммуникации, и конкретными записями коммуникативной действительности.
Во втором томе речь идет о процедурах (элементарных, часто несамостоятельных единицах языкового действия) и процедураль-ном анализе. В каждом языке (или, по крайней мере, во многих языках), утверждает Элих, есть выражения, функцию которых нельзя определить референциально-семантически, но говорящий использует их для того, чтобы внутри непосредственного речевого временного отрезка указать на конституирующие элементы этого пространства, причем говорящий указывает на то, что он находится в нулевой точке «я здесь и теперь», откуда и составляется актуальное речевое действие, направленное на слушающего, что позволяет тому правильно сфокусировать внимание на соответствующих объектах, в результате чего говорящий и слушающий могут говорить об одном и том же. Деятельность говорящего по координации фокусирования активности говорящего и слушающего и обусловливает функции объектно-дейктических выражений, даже вне непосредственного временного промежутка речи, что и определяет общую цель любого дейксиса. Дискурс, текст и представление образуют разные пространства указания. При помощи дейктических выражений говорящий или пишущий указывают на измерения речи, текста или представления, конструируемые через ментальные операции над своим языковым действием, а слушатель или читатель, опираясь на дейксис, реконструирует их. Синхронизация внимания интерактантов представляет собой специфическую цель всех дейктических процедур. Говорится также об оперативных и экспедитив-ных процедурах и приводится процедураль-ный анализ литературных текстов.
В третьем томе подробно разбирается история применения термина «дискурс» и его наполнение различным содержанием в разных теориях. Здесь важно учитывать, что функциональная прагматика включает в себя дис- курс-анализ больших коммуникативных единиц, прежде всего устных, реконструируя их языковые формы в качестве социального поведения в различных институциях, например в школе, суде, администрации, экономике, медицине и религии. Поскольку большая часть общественной коммуникации происходит в институциях, а институции преобразуют неинституциональные языковые формы, образуют новые и тем самым создают посредническую дистанцию между языком и обществом, в том числе и в историческом плане. Интересной частью тома является рассмотрение повседневных рассказов, значения рассказывания для рассказчика и его зависимости от места, где рассказы создаются. Повседневное рассказывание служит передаче опыта, преодолевает изоляцию и конституирует общее участие в дискурсивном знании, с помощью которого реализуется общественная практика. Исследуются отношения между структурами поступков, о которых было рассказано, и различными возможностями их оречевления, а также сложность повседневного рассказывания и его компонентов и их усвоение в онтогенезе. Для определения того, что представляет собой текст, необходимо выявить качественную специфику форм языкового выражения, которые отличают его от других явлений и демонстрируют его интегральную принадлежность к коммуникативной и другой общественной практике актантов. Для Элиха языковое поведение носит сначала устный характер. Устные языковые действия неустойчивы. Преходящесть – условие устной коммуникации. Одновременно она противостоит другим коммуникативным требованиям, особенно необходимости не вообще связывать речевое поведение с одновременным присутствием интерактантов, но делать его доступным и за пределами непосредственно речевой ситуации. Устные и особенно письменные способы решения этой задачи Элих называет текстами – языковыми способами передачи.
Кроме того, характеризуются и разные системы письма: их возникновение является результатом решения проблем традиционных потребностей и приводит к систематическим изменениям языкового поведения (через письмо изменяются процедуральное, иллокутивное и пропозициональное измерения речи), что вы- зывает определенные последствия для местоположения партнеров по интеракции, для развития наук, а также научного и повседневного понимания языка.
Одним из виднейших теоретиков, составителем академической грамматики немецкой разговорной речи является Л. Хоффманн. В новом тысячелетии им изданы фундаментальные книги, посвященные функциональному синтаксису [17] и частям речи в немецком языке [10]. Он же является составителем хрестоматии по общему языкознанию [36]. Столь же глубоко изучаются и новые виды коммуникации, например интернет-общение [21].
Функциональной прагматике изначально свойственна междисциплинарность. Исследования человеческого развития испытывают влияние фундаментальных представлений о взаимодействии, языке и культуре. Возникают вопросы о сути коммуникации, о воздействии интеракции, о потенциале языка. В книге «Die Matrix der menschlichen Entwicklung» [12] ставится одна из ключевых задач нашего времени в области наук о человеке: как объединить эволюционно-биологические, теоретико-онтогенетические, культурно-компаративные, лингвистические и коммуникативные знания, представления о врожденном, о влиянии окружающей среды и социального опыта, модель психического состояния человека, автобиографическую память и доступ к таким культурным практикам, как письмо, и т. п.
Функциональная прагматика стремится приносить конкретную практическую пользу. Многоязычие стало вызовом для немецких школ, причем не только при преподавании собственно немецкого как второго, но и всех предметов. Успешный опыт обобщен в работе «Sprachdidaktik in mehrsprachigen Lerngruppen. Vermittlungspraxis Deutsch als Zweitsprache» [35], благодаря которой учителя могут на основе разбора документированных ситуаций понять, как привлекать родителей, как строить общение с детьми в свете контрастивной дидактики, позволяющей учащимся сравнивать родной язык с немецким.
Межкультурная коммуникация всегда была одним из важных направлений в исследованиях (см., например: [5; 9; 24; 37]). Большое внимание уделяется также переводу как процессу воспроизведения смысла и деятельности переводчика в разных обстоятельствах и при переводе разных типов текстов (см., например: [8; 23]). Существенно то, что принципы функциональной прагматики распространяются на контрастивные исследования (см., например: [22; 27]).
В последние годы стала особенно актуальной тема языковой компетенции и ее тестирования. Под руководством специалистов было реализовано несколько крупных проектов, в частности [3; 6; 18; 28; 29; 30]. В них реализуется функционально-прагматический подход к анализу речи в педагогическом контексте, даются рекомендации по организации успешного процесса преподавания языка как первого и как второго. Колоссальная работа по сведению воедино теоретических основ и многочисленных данных по овладению языками и преподаванию языков привела к впечатляющему результату.
Один из недавних проектов, все еще продолжающийся и распространяющийся на новые области исследования, связан с развитием идеи lingua receptiva – взаимопонимания на основе некоторой общности языков, когда один говорит, а другой слушает, а потом отвечает на своем языке (например, в парах эстонский – финский, датский – шведский, азербайджанский – турецкий). Очень часто существуют завышенные ожидания в отношении родственных языков, но при этом мало известно о том, на что опираются коммуниканты, что им кажется важным, что они понимают неправильно и как объясняют различия [25; 26].
Таким образом, одно из влиятельнейших направлений в германском языкознании продолжает развиваться и в фундаментальном, и в прикладном направлениях.
Список литературы Функциональная прагматика в XXI веке
- Протасова, Е. Ю. Функциональная прагматика: вариант психолингвистики или общая теория языкознания?/Е. Ю. Протасова//Вопросы языкознания. -1999. -№ 1. -C. 143-155.
- Протасова, Е. Ю. Функциональная прагматика в Германии: подход к анализу текста и дискурса/Е. Ю. Протасова//Иностранная психология. -1999. -№ 11. -C. 70-76.
- Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Sprachförderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. -Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004. -376 S.
- Austin, J. L. How to do Things With Words/J. L. Austin. -Oxford: The Clarendon Press, 1962. -192 p.
- Beyond Misunderstanding. Linguistic Analyses of Intercultural Communication/K. Bührig, J. ten Thije (eds.). -Amsterdam: Benjamins, 2006. -345 p.
- Bilanz und Konzeptualisierung von strukturierter Forschung zu „Sprachdiagnostik und Sprachförderung"//Hamburger Zentrum zur Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung und Erforschung schulischer Entwicklungsprozesse (ZUSE). -2011. -191 S.
- Bühler, K. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache/K. Bühler. -Stuttgart: Fischer, 1965. -434 S.
- Bührig, K. Reproduzierendes Handeln. Übersetzen, simultanes und konsekutives Dolmetschen im diskursanalytischen Vergleich/K. Bührig, J. Rehbein. -Hamburg: Hamburger Universität, 2000. -70 S.
- Connectivity in Grammar and Discourse/J. Rehbein, C. Hohenstein, L. Pietsch (eds.). -Hamburg: Hamburger Universität, 2007. -473 p.
- Deutsche Wortarten/L. Hoffmann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2007. -980 S. 11.
- Die Aktualität des Verdrängten. Studien zur Geschichte der Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert/K. Ehlich, K. Meng (Hrsg.). -Heidelberg: Synchron, 2004. -496 S.
- Die Matrix der menschlichen Entwicklung/L. Hoffmann, K. Leimbrink, U. Quasthoff (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2011. -370 S.
- Diskurse und Texte. Festschrift für Konrad Ehlich zum 65. Geburtstag/A. Redder (Hrsg.) -Tübingen: Stauffenburg, 2007. -663 S.
- Drach, E. Grundgedanken der deutschen Satzlehre/E. Drach. -Frankfurt am. Main: Diesterweg, 1937. -99 S.
- Ehlich, K. Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse, Ziele und Verfahren/K. Ehlich//Sprachwissenschaft. Ein Reader/L. Hoffmann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2000. -S. 183-210.
- Ehlich, K. Sprache und sprachliches Handeln: 3 Bde./K. Ehlich. -Berlin: de Gruyter, 2007. -Bd. 1. -498 S.; Bd. 2. -403 S.; Bd. 3. -806 S.
- Funktionale Syntax. Die pragmatische Perspektive/L. Hoffmann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2003. -348 S.
- Grießhaber, W. Spracherwerbsprozesse in Erstund Zweitsprache. Eine Einführung/W. Grießhaber. -Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr, 2010. -356 S.
- Grießhaber, W. Verfahren und Tendenzen der funktional-pragmatischen Diskusanalyse. Vom Speiserestaurant zum Cybercafe/W. Grießhaber//Gesprächsforschung: Tendenzen und Perspektiven/Z. Invanyi, A. Kertesz (Hrsg.). -Frankfurt am Main: Lang, 2001.-S. 75-95.
- Handbuch der deutschen Wortarten/L. Hoffmann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2009. -980 S.
- Internetbasierte Kommunikation/M. Beißwenger, L. Hoffmann, A. Storrer (Hrsg.)//Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST). -2004, Heft 68. -280 S.
- Kameyama, S. Verständnissicherndes Handeln. Zur reparativen Bearbeitung von Rezeptionsdeziten in deutschen und japanischen Diskursen/S. Kameyama. -Münster: Waxmann, 2004. -244 S.
- Meyer, B. Dolmetschen im medizinischen Aufklärungsgespräch. Eine diskursanalytische Untersuchung zur Wissensvermittlung im mehrsprachigen Krankenhaus/B. Meyer. -Münster: Waxmann, 2004. -236 S.
- Multilingual Communication/J. House, J. Rehbein (eds.)//Hamburg Studies on Multilingualism. -2004. -Vol. 3. -367 p.
- Receptive Multilingualism: Linguistic Analyses, Language Policies and Didactic Concepts/J. D. ten Thije, L. Zeevaert (eds.). -Amsterdam: Benjamins, 2007. -328 p.
- Receptive Multilingualism. Special Issue of International Journal of Bilingualism/J. D. ten Thije, J. Rehbein, A. Verschik (eds.). -2012. -Vol. 16, № 3. -117 p.
- Redder, A. Modalverben in wissenschaftlicher Argumentation -Deutsch und Englisch im Vergleich/A. Redder//Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 2001/K. Ehlich (Hrsg.). -München: iudicium, 2002. -S. 313-330.
- Redder, A. Mündliche Wissensprozessierung und Konnektierung. Sprachliche Handlungsfähigkeiten in der Primarstufe/A. Redder, S. Guckelsberger, B. Graßer. -Münster: Waxmann, 2013. -277 S.
- Redder, A. Wortarten als Grundlage der Grammatikvermittlung/A. Redder//Grammatik in der Universität und für die Schule/K.-M. Köpke, A. Ziegler (Hrsg.). -Tübingen: Niemeyer, 2007. -S. 129-146.
- Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung. -Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2008. -Bd. I. -131 S.; Bd. II -352 S.
- Rehbein, J. Das Konzept der Diskursanalyse/J. Rehbein//Text-und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung/A. Brinker, S. Heinemann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2001. -S. 927-945.
- Schegloff, E. A. Sequencing in Conversational Openings/E. A. Schegloff//Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication/J. J. Gumperz, D. Hymes (eds.). -N. Y.: Holt, 1972. -P. 346-380.
- Selz, O. Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums/O. Selz. -Bonn: Cohen, 1922. -272 S.
- Sperber, D. Relevance. Communication and Cognition/D. Sperber, D. Wilson. -Oxford: Blackwell, 1986. -338 p.
- Sprachdidaktik in mehrsprachigen Lerngruppen. Vermittlungspraxis Deutsch als Zweitsprache/L. Hoffmann, Y. Ekinci-Kocks (Hrsg.) -Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2011. -343 S.
- Sprachwissenschaft. Ein Reader/L. Hoffmann (Hrsg.). -Berlin: de Gruyter, 2010. -400 S.
- Translational Action and Intercultural Communication/K. Bührig, J. House, J. ten Thije (eds.). -Manchester: St. Jerome's, 2009. -188 p.
- Weisgerber, L. Das Tor zur Muttersprache/L. Weisgerber. -Düsseldorf: Schwann, 1954. -119 S.