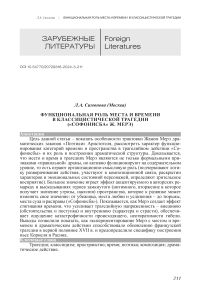Функциональная роль места и времени в классицистической трагедии ("Софонисба" Ж. Мерэ)
Автор: Симонова Л.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи - показать особенности трактовки Жаном Мерэ драматических законов «Поэтики» Аристотеля, рассмотреть характер функционирования категорий времени и пространства в трагедийном действии «Софонисбы» и их роль в построении драматической структуры. Доказывается, что место и время в трагедиях Мерэ являются не только формальными признаками «правильной» драмы, но активно функционируют на содержательном уровне, то есть играют организационно-смысловую роль (подчеркивают логику разворачивания действия, участвуют в композиционной связи, раскрытии характеров и эмоциональных состояний персонажей, определяют зрительское восприятие). Большое значение играет эффект акцентируемого в авторских ремарках и высказываниях героев замкнутого (интимного, вторжение в которое получает значение угрозы, насилия) пространства, которое к развязке может изменять свое значение: от убежища, места любви и уединения - до тюрьмы, места суда и расправы («Софонисба»). Показывается, как Мерэ создает эффект стягивания времени, что усиливает трагедийную напряженность - внешнюю (обстоятельства и поступка) и внутреннюю (характера и страсти), обеспечивает ощущение катастрофичности происходящего, неотвратимости гибели. Выводы позволили показать, как экспериментирование Мерэ с местом и временем в драматическом действии способствовало обновлению французской трагедии в первой половине XVII в. и предопределило специфику построения пьес Корнеля и Расина.
Трагедия, классицизм, пространство, время, поэтика, композиция, драматическое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/149147188
IDR: 149147188 | DOI: 10.54770/20729316-2024-3-211
Текст научной статьи Функциональная роль места и времени в классицистической трагедии ("Софонисба" Ж. Мерэ)
Tragedy; classicism; space; time; poetics; composition; dramatic action.
Жану Мерэ, чье творчество во многом предопределило развитие французской классицистической трагедии первой половины XVII в. и повлияло на становление драматургической манеры П. Корнеля и Ж. Расина (этой точки зрения придерживаются, в частности, Ш. Дедеян и Дж. Дотоли [Dedeyan 1969; Dotoli 2008]), принадлежат три пьесы, написанные в трагедийном жанре: «Софонисба» (1634), «Марк Антоний, или Клеопатра» (1635) и «Последний и великий Сулейман, или Смерть Мустафы» (1637). Однако Мерэ не сразу приходит к трагедии – жанру, который с 40-х гг. XVII в. займет в театре господствующее положение: как и многие драматурги его поколения (Ж. де Ротру, Ж. де Скюдери, П. Дю Рие, Ф. Тристан Лермит, А. Марешаль, П. Корнель), он отдал дань трагикомедии, в первые десятилетия XVII в. значительно потеснившей трагедию на парижской сцене. Только в середине 30-х гг. трагедия с постановкой «Софонисбы» Мерэ, «Смерти Цезаря» Скюдери, «Умирающего Геракла» Ротру и «Медеи» Корнеля возвращается на французскую сцену. В творчестве названных драматургов жанр трагедии будет значительно обновлен, что и обеспечит его жизнеспособность. Поиск возможных путей обновления жанра во многом предопределен идейно-теоретическим спором, в который будут втянуты практически все драматические авторы. В конце 20-х – начале 30-х гг. XVII в. развернулась серьезная эстетическая полемика, большинство участников которой старались дискредитировать трагедию как жанр «устаревший» и защитить трагикомедию как жанр «современный», «прогрессивный» (об этом свидетельствуют многочисленные предисловия, среди которых пре- дисловие Ф. Ожье к трагикомедии «Тир и Сидон» (1628) Ж. де Шеландра, предисловие к «Лигдамону и Лидиасу» (1631) Ж. де Скюдери, предисловие к «Благородной немке» (1631) А. Марешаля). По наблюдению Ж. Форестье, к трагедии начали относиться как жанру «назидательному», «скучному», что усугублялось «требованием единства времени, а также ярко выраженным дискурсивным, нравоучительным и моральным характером», и старались распространить трагикомедию, которая погружала зрителя в романтические приключения и развлекала разнообразием времен, мест и событий [Forestier 1998, 64]. Несколько иную мысль высказывает Э. Баби в статье «Парадоксальная легитимизация: трагикомедия времени Ришелье»: усилия теоретизирования трагикомедии как современного (то есть не опирающегося на античный пример) жанра инициировали активизацию рефлексии над поэтологическими нормами и таким образом способствовали укреплению этих норм, именно в ситуации спора, отрицания правила фиксировались и закреплялись, распространяясь на саму трагикомедию, которая стала осмысляться как «правильная» и в которой правила начинали соблюдаться («Клитандр» и «Сид» Корнеля, «Сильванира» Мерэ и др.) [Baby 2004, 295]. О полемике вокруг аристотелевских правил и характере их распространения на театральную практику подробно говорят А.Е. Махов [Махов 2020], Е. Занен [Zanin 2018; Zanin 2020], Б. Лува-Моло-зе [Louvat-Molozay 2001], В. Лошер [Lochert 2018], А. Делерис [Déléris 2016] и С. Беррегар [Berrégard 2018].) В этой полемике Мерэ занял двойственную позицию, что можно видеть в написанном им в 1631 г. предисловии к пасторали «Сильванира», которое парадоксальным образом является апологией «неправильной» драмы и одновременно убедительным выражением эстетической программы классицистического театра (логика движения мысли классицизма никогда не однозначна, прямолинейна, в ней почти всегда заложено потенциальное опровержение установленного, в частности, Э. Бури высказался об этом так: «Нет ни одного признака классицистической доктрины, который мог бы быть понят без контраргумента, который его выделяет» [Bury 1998, 227]). В этом предисловии Мерэ, сосредоточивая внимание на драматическом роде, следуя примеру Б. Гарини, издание 1602 г. пасторали «Верный пастух» которого предварялось теоретическим текстом, впервые на французской почве подробно и в системной взаимосвязи определяет концепцию подражания античности и ориентации на аристотелевскую «Поэтику», идею «образцовости», жанрового канона, стилистической нормы, единства времени, места и действия (что в дальнейшем будет определено как правило «трех единств»). Через три года, осуществляя на практике ту теоретическую программу, которая была им представлена в предисловии к «Сильванире», Мерэ создает образцовый пример трагедии – «Софонисбу» (эта пьеса считается первой во Франции «правильной» трагедией, то есть написанной с учетом жанровых законов «Поэтики» Аристотеля, в первую очередь «трех единств»). В последующих трагедиях – «Марк Антоний», «Смерть Мустафы» – Мерэ совсем не следует найденному в «Софонисбе» принципу построения драматургического текста, даже при беглом знакомстве с тремя пьесами обнаруживается их принципиальное структурно-поэтологическое различие, Мерэ практически ни в чем – проблематика, интрига, композиционные приемы, характеры и т.д. – не повторяется. Драматург выступает настоящим экспериментатором в трагедийном жанре: он ищет пути его обновления, с каждой новой трагедией нащупывая пределы его трансформации, определяя возможность изменений при сохранении определяющих признаков (изменяющуюся с каждой последующей трагедией технику драматического письма Мерэ рассматривает Б. Лува-Молозе в статье «Границы трагедии: “Сильванира”, “Софонисба”, “Сидония”» [Louvat-Molo-zay 2008]). Подчеркнем, что определяющими признаками трагедии для Мерэ являются единство времени и единство места, доказательством чему служит тот факт, что во всех трех трагедиях он старается их соблюдать, делая на этом акцент в авторских ремарках.
Однако необходимо задаться не утратившим свою актуальность вопросом, абсолютны ли для драматургов, представителей классицистической трагедии, жанровые правила, в частности правило «трех единств», в какой мере они соблюдались, с какими отступлениями, поправками интерпретировались. Не стоит выпускать из внимания, что функционирование эстетической системы есть продолжительный процесс, а следовательно, можно выделить этапы оформления поэтологических норм с учетом дискуссионной плюралистично-сти и гибкости их трактовок авторами и литературной критикой. Об этом, в частности, говорит П. Паскье в статье «Тень времени: размышление о месте драматического времени в эстетическом дискурсе XVII века» [Pasquier 2001]. Рассматривая правило двадцати четырех часов, исследователь выделяет три периода: первые десятилетия XVII века (до 1628 г.), когда правило единства времени не было проблематизировано, о нем упоминали как о чем-то безусловном, существующем безотносительно драматургического процесса в его связи с запросами современности; период с 1628 г. (публикация предисловия Ф. Ожье к «Тиру и Сидону») по 1663 г., когда авторы и теоретики литературы размышляли о целесообразности его соблюдения и способах его применения; после 1663 г. на правило единства времени указывали как на неопровержимое, принятое всеми, окончательно установленное и, следовательно, не заслуживающее объяснений [Pasquier 2001]. Мерэ, как и его современники, писал в условиях проблемного, неустойчивого, неустановленного эстетического поля, что открывало перед ним возможность неоднозначных трактовок жанровых правил, более или менее заметных отступлений от них (что было инициировано как их различными объяснениями теоретиками, так и задачами реализации конкретного драматургического замысла). Схожую мысль о классицистических правилах находим у Дж. Дотоли в книге «Литература и общество во Франции XVII века»: «Они никогда не являлись доктринальным императивом, но, наоборот, гибкими линиями, чтобы определить связи между поэтикой, гением и замыслом» [Dotoli 1987, 178].
Для примера обратимся к тексту «Смерти Мустафы». Драматическое действие предваряет авторское замечание о соблюдении формальных законов жанра: «сцена представляет собой сирийский город Халеб, пьеса соответствует всем правилам трагедии» [Mairet 1639, 107]. Здесь важен сам акцент драматурга на том, что «Смерть Мустафы» является «правильной» трагедией, при последовательном рассмотрении текста пьесы в утверждении Мерэ можно заметить некоторую натяжку, которая обнаруживает одну из примечательных особенностей эстетического мышления времени, неоднозначный, часто петляющий процесс рефлексии над формальными и содержательными признаками жанров, а также разную степень «пригонки» практики драматического письма к не во всем последовательно закрепляемому в теории образцу. Из теоретизирования и самих пьес Мерэ (как и Корнеля) следует, что среди «трех единств» первостепенное значение имеет единство времени, не случайно относительно него наиболее часто прямо ссылаются на Аристотеля и Горация (заметим также, что именно правилу двадцати четырех часов посвящен теоретический трактат Шаплена «Письмо о правиле двадцати четырех часов» (1630) Ж. Ша-плена, ему уделяют самое большое внимание в предисловиях и именно его широко обсуждают в разных кругах парижского общества – Д’Обиньяк в 7-й главе «Практики театра» (трактат создавался в 40-е гг. XVII в.) так свидетельствует о полемике вокруг правила единства времени: «В настоящее время нет более оживленно обсуждаемого вопроса <…> поэты часто о нем говорят, актеры, как и те, кто часто бывает в театре, обсуждают его при каждой встрече, нет ни одного салона, в котором женщины не разбирали бы его» [Aubignac 1657, 318]). Из других формальных правил единство времени выделяется как строго обязательное (в предисловии к «Сильванире» Мерэ определяет его как «самое строгое» правило, «один из самых основных законов театра» [Mairet 2012, 24], в «Рассуждениях о драме» Корнель убедительно настаивает на нем как на имеющем «разумное основание» [Corneille 1987, III, 178]; чаще всего единство времени неотступно, в первую очередь соблюдается (это можно видеть во всех трагедиях Мерэ, как и Корнеля, примечательно, что в разборе «Сида» (1660) тот подчеркивает, что действие, хотя и с большим трудом, но все же уложено им в двадцать четыре часа). Относительно правила единства места такой однозначности нет. В том числе и по причине того, что за этим правилом не стоит авторитет Аристотеля и Горация, оно допускает некоторую вариативность в трактовке. Так, в разборе «Сида» Корнель указывает, что в этой пьесе соблюдает «в некотором роде единство места в целом» (поскольку все происходит в Севилье), изменяя только «отдельное место» [Corneille 1987, I, 224]. Такое отступление от требования представляется Корнелю оправданным, объяснение чему встречаем в его «Рассуждении о драме», где утверждается, что соблюдение единства места «часто затруднительно, если не сказать невозможно», так что «необходимо найти некоторое расширительное толкование места» [Corneille 1987, III, 199]. Из дальнейшего размышления Корнеля становится ясно, что им имеется в виду под широким пониманием единства места, – действие должно происходить в одном городе: «…так как единство места соответствует не всем сюжетам, я охотно согласился бы, чтобы единство места составляло то, что происходит в одном городе <…> в двух-трех отдельных закрытых местах в пределах его стен» [Corneille 1987, III, 201]. Можно говорить о том, что Мерэ понимает единство места сходным образом: как было отмечено, в предваряющей действие «Смерти Мустафы» ремарке он указывает на то, что все происходит в Халебе, однако конкретные места событий меняются от сцены к сцене – это залы царского дворца, городская улица, площадь перед дворцом. Близость подхода двух драматургов к вопросу единства места находит подтверждение в предисловии Мерэ к «Сильванире», где он оговаривается о нарушении правдоподобия, если действие переносится из одного города в другой. Как авторы трагедий в осуществлении драматургического замысла Мерэ и Корнель уделяют большое внимание сценическому пространству, которое, по их мнению, должно быть обозначено таким образом, чтобы зритель понимал, что не покидает пределов одного города. В «Смерти Мустафы» Мерэ экспериментирует с пространством, пренебрегая точным соблюдением правила единства места, понимая его как разные места одного города.
Следующий вопрос – принципы функционирования места и времени в общей поэтологической системе трагедии, их роль в построении композиции, раскрытии характеров персонажей, программировании зрительского восприятия. В отличие от Корнеля, структурные признаки построения действия, такие как единство времени и места, Мерэ удается укоренить на содержательном уровне, иначе говоря, заставить знаково-семантически функционировать. Напомним, что одним из первых на организационно-смысловую роль в классицистической трагедии пространства и времени обратил внимание Р. Барт: в книге «О Расине» он прослеживает, как действующий герой оказывается включен в знаково-семантическую систему координат - пространственных (пространство маркирует экзистенциальное состояние, оно может быть замкнутым или открытым, то есть несвободным или свободным) или временнь1х (время проявляет себя в законах рода, определяемых давлением авторитета - прошлого как традиции).
В «Софонисбе» по мере разворачивания событий драматическое пространство может приобретать разное значение: оно может быть местом душевных излияний или горестных сетований (о чем чаще всего сигнализирует ремарка «остается один / одна»), местом совещания царя (Сифакса) или царицы (Софонисбы) с приближенными, местом официального приема (первая встреча Софонисбы с Массиниссой), местом уединения и интимной беседы молодых супругов, местом насильственного вмешательства римских властей (в лице Сципиона и Лелия) и их суда над Массиниссой и Софонисбой, наконец, местом самоубийства главных героев. Одной из особенностей драматического письма Мерэ является стремление к ограничению, замыканию пространства. Неизменно пребывая во дворце, Софонисба хочет укрыться от опасности (физически, как и психологически), защититься не только от вторжения врага, но самой угрозы ее независимости. Именно это отчетливо наблюдаемое в авторских ремарках и дискурсе героев стремление Мерэ к неизменности, определенности, ограниченности пространства, образно говоря, его стягиванию вокруг напряженности бытия главных действующих лиц, судьба которых, как бы они ни старались ее избежать, решается «здесь» и «сейчас» (стремительность времени значимо стянуто к «здесь»), заставляет видеть в «Софонисбе» единство места, чего в строгом смысле нет.
Время в «Софонисбе» настойчиво проявляет себя в сценическом действии, оно навязывает себя героям, довлеет нам ними. На протяжении всей трагедии оно присутствует слишком ощутимо: во многих высказываниях действующих лиц есть прямое указание на время, которое загоняет в границы необходимости - разворачивающихся событий или поступка. Сжатие времени в трагедии Мерэ имеет своим основанием и оправданием характеры героев (они способны вынести такую стремительную быстроту развития событий и сами способствуют их ускорению, стараясь перегнать настигающее их наказание). Кроме того, периодически возникающие в репликах персонажей фразы указывают на то, что время в драматическом действии не замедляется, произвольно растягиваясь, но, напротив, убыстряется, стягивается, укладываясь в строго отведенные законом жанра пределы - двадцать четыре часа. Отчетливее всего эти сигнальные выражения просматриваются в пятом акте: внимание зрителей обращается автором на то, что, несмотря на множественность произошедших событий, а также резкие изменения в положении героев, все происходящее в пьесе ограничивается одними сутками. Согласно рассеянным в тексте упоминаниям, действие в трагедии начинается днем с ссоры Софонисбы и Сифакса, за которой сразу же следует сражение войск нумидийского царя с атакующими их силами Массиниссы, который, разгромив своего врага, вечером того же дня захватывает царский дворец и, влюбившись в Софонисбу и добившись у нее согласия на их брак, женится на ней; после совершения обряда супруги проводят брачную ночь, на утро следующего дня в Цирту пребывает Сципион и добивается убийства царицы, после смерти которой, не медля, убивает себя Массинисса. Такая спрессованность событий, не выходящих за границы суток, подчеркивается высказываниями героев. Например, в начале пятого акта Массинисса говорит, что еще вчера на закате солнца, беря в жены Софонисбу, был счастливейшим из людей, а сегодня встречает восход самым несчастным. Те же временные рамки обозначены в монологе Софонисбы, которая, ожидая результата встречи Массиниссы и Сципиона, в беседе с кормилицей говорит об «этом утре» и «вчерашнем вечере», когда происходил их с Массиниссой свадебный обряд [Mairet 2018, 41]. И в следующей же сцене, приняв яд и уже слабея от его действия, Софонисба просит слуг уложить ее на кровать и удовлетворенно замечает, что вчера вечером на ней свершалось брачное таинство, связавшее ее с Массиниссой. Подтверждением тому, что Мерэ сумел вместить все действие в сутки, служат заключительные высказывания главного героя: имея в виду его самоубийство (которым и заканчивается трагедия), Массинис-са говорит, что обманет своих преследователей «еще до конца дня» [Mairet 2018, 44]. Свершающееся событие как бы теснит предыдущее, накладывается на него, рождается впечатление их катастрофической тесноты: в третьем акте Софонисба говорит служанке, что еще не похоронен Сифакс, а она вступает во второй брак (и призрак Сифакса приходит к ней в ее брачную ночь); Мас-синисса в его последнем монологе говорит, что «почти в один и тот же день» он стал супругом и вдовцом, то есть его брак, вдовство и собственная смерть почти совпадают во времени. Таким образом, быстрота действия, иначе говоря, стягивание времени, усиливает трагедийную напряженность – внешнюю (обстоятельства и поступка) и внутреннюю (характера и страсти).
Заданные аристотелевской «Поэтикой» и закрепляемые классицистической эстетикой правила ограничения места и времени в драме спровоцировали Мерэ на поиск усиления их эффективности в трагедийном действии – придание им дополнительной смысловой и катарсической (программирование зрительского восприятия) нагрузки. То, насколько у Мерэ правило единства времени и места работает на усиление генеральной идеи (человек как жертва превосходящих его законов несправедливого, враждебного, античеловеческого миропорядка) и трагедийного пафоса (выражение предельной напряженности страдания), упрочение структурно-смыслового единства текста (композиция, скрепляющие мотивы, повторяющиеся, акцентно выделяемые образы пространства и времени), обеспечение эффекта соприсутствия «герой – зритель», общности переживания бытийного момента (ситуация «здесь» и «сейчас»), – свидетельствует о том, что для драматических авторов XVII в. поэтологические законы не были ограничением, принуждением, закрепощением (как это стала понимать уже романтическая эпоха), но фактором, активизирующим подвижность, изменчивость драматического письма, которое в поисках новых средств выразительности утверждало жизнеспособность классицистического театра как эпохального явления. Экспериментирование Мерэ с категориями времени и места во многом определило обновление жанра трагедии в XVII в., повлияло на становление драматической манеры Корнеля и Расина.
Список литературы Функциональная роль места и времени в классицистической трагедии ("Софонисба" Ж. Мерэ)
- Махов А.Е. Категория правдоподобия в литературной теории французского классицизма // Studia Litterarum. 2020. Т. 5. № 2. С. 10-23.
- Aubignac, François Hédelin, abbé d'. La pratique du théâtre: œuvre trés nécessaire à tous ceux qui veulent s'appliquer à la compositions des poémes dramatiques, qui font profession de les réciter en public, ou qui prennent plaisir d'en voir les représentations. Paris: Éditeur Sommaville, 1657. 514 p.
- Baby H. De la légitimation paradoxale: la tragic-comédie au temps de Richelieu // Littératures classiques. 2004. № 51. P. 287-303.
- Berrégard S. L'Argument de théâtre comme unlieu de réflexions théoriques // L'invention du théâtre moderne. Actes des journées d'étude (CESR, 4-5 novembre 20l6). Tours: Université François Rabelais, 2018. P. 8-19.
- Bury E. Frontières du classicisme // Littératures classiques. 1998. № 34. P. 217-236.
- Corneille P. Œuvres complètes. Vol. 1-3. Paris: Gallimard, 1987.
- Dedeyan Ch. Introduction // Mairet L. La Sophonisbe. Paris: Nizet, 1969. P. XXXIII-XLIV.
- Déléris A. Le modèle tragic-comique guarinien en France et en Angleterre au début du XVII siècle. Importations appropriations et tentatives de légitimation d'un genre "bâtard" // Les théâtres anglais et français (XVI-XVIII-e siècles). Contacts, circulations, influences. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2016. P. 157-171.
- Dotoli G. Jean Mairet aujourd'hui // Le théâtre de Jean Mairet. Littératures classiques. 2008. № 65. P. 167-174.
- Dotoli G. Littérature et société en France au XVII-e siècle. Paris: Nizet, 1987. 391 p.
- Forestier G. Politique et tragédie chez Corneille, ou de la "broderie" // Littératures classiques. 1998. № 32. P. 63-74.
- Lochert V. Règles // Le théâtre au miroir des langues: France, Italie, Espagne XVI-XVII-e siècles. Genève: Droz, 2018. P. 117-125.
- Louvat-Molozay B. Frontières de la tragédie: La Silvanire, La Sophonisbe, La Sido-ni // Le théâtre de Jean Mairet. Littératures classiques. 2008. № 65. P. 129-144.
- Louvat-Molozay B. Le traitement du temps dans la tragi-comédie et dans la pastorale (1628-1632): les enjeux dramaturgiques du débat autour de la règle des vingt-quatre heures // Littératures classiques. 2001. № 43. P. 127-145.
- Mairet J. La Sophonisbe. Paris: Hachette Livre - BNF, 2018. 114 p.
- Mairet J. Le grand et dernier Solyman, ou La mort de Mustapha. Paris: Éditeur A. Coubé, 1639. 159 p.
- Mairet J. Préface // Mairet J. La Silvanire, ou La morte-vive. Paris: Hachette Livre -BNF, 2012. 186 p.
- Pasquier P. L'ombre du temps: réflexion sur le statut du temps dramatique dans le discours esthétique du XVII-e siècle // Littératures classiques. 2001. № 43. P. 89-116.
- Zanin E. L'invention des règles: théâtre et politique culturelle en Europe (15501650) // L'invention du théâtre moderne. Actes des journées d'étude (CESR, 4-5 novembre 2016). Tours: Université François Rabelais, 2018. P. 47-65.
- Zanin E. Répondre au lieu de défendre: la lettre de Jean Chapelain sur la règle des vingt-quatre heures // Correspondance et critique littéraire. XV-XX-e siècles. Paris: Garnier, 2020. P. 71-81.