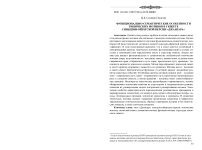Функционально-семантические особенности типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии "Джангара"
Автор: Селеева Цаган Бадмаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
Одной из актуальных проблем поэтики эпического сюжета является рассмотрение мотивов как слагаемых элементов сюжетной системы. Целью настоящего исследования является изучение функционально-семантических особенностей ряда типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар». В ходе исследования выявлено, что в эпосе имеется устойчивый и повторяющийся арсенал типических мотивов, функционирующий в составе системы и находящий свое определенное место в структуре сюжета. Анализ выявил ряд важных функциональных и семантических особенностей типических мотивов (пира, получения вести / послания, совета, поимки коня, седлания коня, снаряжения героя, отправления в путь героя, преодоления пути, сражения / поединка) в контексте эпического сюжета. Мотив пира обрамляет эпический сюжет и носит характер отправного элемента в его развитии. Мотивы вести / послания и совета имеют прагматическую функцию, от которой зависит дальнейшее развитие сюжетных событий. Устойчивая цепочка мотивов поимки коня - седлания коня - снаряжения в путь героя - отправления в путь героя играет организующую роль в сложении сюжета, а мотив сражения / поединка имеет сюжетообразующее значение. Несмотря на тематическое разнообразие и вариативность, мотивы обнаруживают типические свойства на структурном и содержательном уровнях, очевидна их универсальная модель построения и развертывания мотивов. Типические свойства характеризуются определенными релевантными признаками и маркирующими элементами, где важную роль играют облигаторные акторы, локусы, темпоральные признаки, эпические хронотопы и хроноакты. В семантике типических мотивов находят отражение архаическая символика и мифология, традиционные этнические ритуалы, обряды и верования, история и быт монгольских номадов, а также эпические концепты.
Синьцзян-ойратская версия, типические мотивы, эпический сюжет, семантика мотива, функция мотива, структура эпического сюжета, эпос "джангар"
Короткий адрес: https://sciup.org/149127235
IDR: 149127235 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00089
Текст научной статьи Функционально-семантические особенности типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии "Джангара"
Традиционные взгляды на сюжет как сложную схему, состоящую из комбинации мотивов, восходят к идеям А.Н. Веселовского [Веселовский 2006, 539], где мотив понимается в значении «элемент сюжета», «слагаемое сюжета». Дальнейшие исследования повествовательного сюжета (Р. Якобсон, В.М. Жирмунский), выявили последовательность мотивов и их внутреннюю логику. Сюжет - это не просто скопление мотивов, а художественная совокупность мотивов, это особая художественная структура, сложенная по законам художественной композиции [Якобсон 2011,49-50].
Эпический сюжет выражен устойчивой событийной канвой, связанной с эпической биографией героя-богатыря, его подвигами и героическими поступками, и сосредоточен вокруг основных эпических коллизий (матри- мониальных и воинских). Исследователи отмечают типологическое единообразие жанрово-композиционного построения эпического сюжета, на содержательном уровне типологически общими оказываются характерные эпические ситуации, связанные с основными эпическими коллизиями. Типовую особенность эпического мотива отмечает Б.Н. Путилов и связывает ее со спецификой эпоса как художественного явления [Путилов 1975, 144].
Для понимания сути эпического сюжета актуальным является рассмотрение мотивов как слагаемых элементов сюжетной системы. Целью настоящего исследования является изучение функционально-семантических особенностей ряда типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар».
К разряду типических в структуре эпического сюжета относится мотив пира, им начинается и заканчивается повествование, переходя от одной сюжетно-событийной канвы к другой. Мотив пира, обрамляющий эпический сюжет, отражает характерный для эпики прием дублирования важнейших эпических событий. Он носит характер отправного элемента в развитии сюжета, поскольку на пиру происходят события, дающие толчок сюжетному развитию действия.
Пир символизирует мирную эпическую жизнь, где устанавливается, закрепляется и поддерживается героический миропорядок со своей социальной структурой и иерархией. Согласно архаическим представлениям пир являлся «одним из важнейших средств социального общения и ритуального действа, обеспечивающего благополучие рода, племени или союза племен» [Мельникова 1987, 168]. По-видимому совместная трапеза имела в сознании людей глубокий общественный, религиозный и моральный смысл. С едой в древности было связано «представление о преодолении смерти, об обновлении жизни, о воскресении. Отсюда и древние “пиры бессмертия”, дающие избавление от смерти и вечную молодость» [Фрейденберг 1997, 64].
Мотив пира в структуре эпического сюжета реализуется в зачине и в финале, а иногда включается в медиальную часть повествования. В текстах «Джангара» обнаруживаются следующие разновидности пира: богатырский пир; пир по случаю благополучного возвращения домой и пленения хана-антагониста; пир по случаю примирения и установления дружеских взаимоотношений; свадебный пир; пир с участием посла-иноземца.
Пир в эпосе назван по названию напитка «арзин суур» (дословно «пир за арзой»). Арза - крепкая молочная калмыцкая водка, дважды перегнанная, самый ценный и любимый напиток на пиру в эпосе «Джангар». Лучшая арза в эпосе приготовляется из молока диких кобылиц и это исключительно богатырский напиток. После употребления этого напитка «священные чрева богатырей тут же горячились», и когда «глотки богатырей от выпитой арзы становились красными, они, озираясь по сторонам, искали повод сразиться с врагом или устроить облаву на дикого зверя». Стремление найти применение своей силе является выражением богатырской энергии, ищущей выхода, и богатырской жажды подвигов.
При детальном рассмотрении на содержательном уровне очевидна универсальная модель построения и развертывания данного мотива. В целом же модели эпического пиршества присущ ряд маркирующих элементов: место пира, состав пира, длительность пира, детали пира и др. Местом богатырского пира является дворец правителя Джангара (правителя-антагониста, иноземного хана) - центр эпического мироздания. Пир в зачине и в финале традиционно локализуется во дворце богдо нойона Джангара.
Одним из значимых элементов пира является состав присутствующих. Порядок размещения гостей на пиру иерархический, соответственно статусу присутствующих, и составляет семь полных кругов. Так, ближний к правителю Джангару круг составляют богатыри и сайды, затем следуют старики и старухи, и уже за ними - молодицы и девушки.
Маркирующим элементом пира выступает его длительность. У синьцзянского сказителя Пюрбюджаба пир длится девяносто девять лет, что является гиперболическим указанием на длительность и бесконечность времени, проводимом народом Бумбайской страны в увеселениях. Так, протяженность пира в синьцзян-ойратской версии может достигать от шестидесяти до восьмидесяти суток: «Проведя в больших наслаждениях шестьдесят суток, в больших пирах семьдесят суток, на протяжении восьмидесяти суток длилось веселье с гостями» [Джангар 2005-2008,1, 518].
В синьцзян-ойратской версии наиболее распространенной является модель пира «Джангар и его богатыри». «На пирах богатыри располагаются в ставке хана в строго определенном порядке: барун (правые), зун (левые), причем как справа от хана, так и слева, места оказываются закрепленными за героями в зависимости от их заслуг и достоинств» [Кичиков 1976, 17]. Иерархический порядок размещения богатырей на пиру свидетельствует о доминировании патриархальных тенденций в эпосе. К числу приближенных эпического властелина относятся двенадцать главных богатырей, а остальные участники пира составляют боевую дружину Бумбайской державы - восемь тысяч львов-богатырей: «Под водительством рожденных главенствовать двенадцати богатырей, свободных тридцати пяти богатырей, [восседавших] за арзой восьми тысяч львов [-богатырей], под покровительством славного Джангара - в прекрасном желто-пестром дворце, составив семь кругов, пировали в изобилии арзы из молока диких кобылиц. Проводя в больших наслаждениях шестьдесят суток, в больших пирах восемьдесят суток, веселясь, в счастье пребывали» [Джангар 2005-2008,1, 467].
Всенародное пиршество отличается от пиров, на которых присутствовали только приближенные богатыри и сайды или дружина богатырей: «Подданные славного нойона Джангара в девятиярусном, девятицветном, высоком золотом дворце, составив семь полных кругов, в изобилии крепкой прозрачной арзы пировали, - проводя в больших пирах восемьдесят суток, в больших наслаждениях шестьдесят суток, веселясь, в счастье пребывали они» [Джангар 2005-2008,1, 409].
Согласно закону эпической симметрии, пиру в зачине нередко противопоставлен пир в ставке антагониста. «При сохранении модели пира как таковой, в мире антагониста все ее элементы обретают противоположный знак» [Мельникова 1987, 175]. Мир антагониста по своей природе асоциален, поэтому функция пира в ставке антагониста есть не установление общественных отношений, но их разрушение, не поддержание и закрепление гармоничного миропорядка, но его попрание и уничтожение. Во время пира герой оглашает ультимативное послание Джангара. В ответ демонстрируется враждебное отношение к герою. В других случаях прибывшие в страну Джангара богатыри-послы, огласив послание на пиру, дождавшись ответа и не вступая в противоборство, но иногда высказав угрозы, возвращаются домой.
Главы, посвященные борьбе с ханом-антагонистом, завершаются пиром по случаю благополучного возвращения домой и пленения хана-анта-гониста, где пир дается в честь героя и богатырей, одержавших победу в сражении с мощным врагом. Пир в финале отличается от пира в зачине повышением статуса героя, в связи с одержанной им победой над антагонистом, например, пир в честь юных героев по случаю благополучного возвращения домой и пленения хана-антагониста: «В Ара Бумбайской стране подданные славного нойона богдо Джангара, [восседавшие] за арзой, восемь тысяч богатырей, - мстительных под пятой раздавив, покоренных под стременем трепетать, заставив, пировали в изобилии арзы из молока диких кобылиц - в вечном счастье и бессмертии, в прекрасном спокойствии и благополучии пребывали» [Джангар 2005-2008,1, 546].
В эпической картине мира функция «пира» является гармонизирующей основой «военной» доминанты и относится к «героическому быту». В финальном пиршестве совершается возврат к исходной ситуации эпического благоденствия и гармонии. О народе страны Бумбы в эпосе говорится: «за благодатной арзой пируя, в блаженстве пребывали они».
Мотив вести / послания содержит необходимую для героя и других участников эпических событий важную информацию, от которой зависит дальнейшее развитие событий. Типичной для эпоса является ситуация, когда важную весть или послание герой получает во время своего пребывания в стране хана-антагониста или чужеземного хана: «По хотону ехал человек и призывно кричал, чтобы на следующий день все отправлялись в гости к хану. [Тарха] бросился с расспросами к отцу о том, что это был за человек и о каких гостях идет речь. Отец поведал [тархе], что у хана Буурал Замбала имеется единственное дитя - дочь Зула Зандан. Недавно сын Мангас-хана, Бёке Цаган, посватался [к дочери хана]. Теперь завтра-послезавтра предстоят торжества, посвященные сватовству. А призывно кричащий человек - это один из богатырей хана - хоть горой его бей, невредимым останется вепрь[-богатырь], привратник Боро Мангна» [Джангар 2005-2008,1, 494].
Иногда функция вестника возложена на старца, исполняющего миссию покровителя и советчика героя в иноземной стране. Так, правитель
Джангар, разыскивающий героя, получает от старца весть о его местонахождении:
«Тем временем почтенный Алтан Чееджи, насторожил свое правое ухо и сообщил, что, видно, есть известие о Благородном Алом Хонгоре. Когда почтенный Алтан Чееджи сообщил об этом, [богатыри] славного нойона богдо Джангара, подняв большой столб пыли, помчались на скакунах. Старик, сев верхом на коня Кюрюнг Галзана, покрывшись большим столбом пыли, скакал навстречу, по пути славного Джангара. На одном из перевалов [старик] выехал навстречу и, приблизившись, крикнул, что разыскиваемый ими человек находится у них. Когда джан-гаровцы с шумом подъехали, то Бумбайский старик, с седыми на лбу волосами, с седой бородой, на коне Кюрюнг Галзан, сказал, что Хонгор, разыскиваемый ими, уже семь лет как пришел к нему домой и живет у него» [Джангар 2005-2008, I, 509].
Мотив совета в эпосе имеет активную продуктивность и характеризуется определенными релевантными признаками, при этом важную роль играют персонажи, дающие совет герою - мудрец, конь, девушка-помощница, - восходящие к сказочным чудесным помощникам. В сложных или неразрешимых ситуациях Джангар просит совета у Алтана Чееджи, духовного наставника и советчика богатырей, владеющего вещим словом и знанием о прошедших и грядущих девяноста девяти годах. Образ почтенного мудреца-прорицателя в эпосе восходит к древнейшему тюрко-монгольскому мифологическому образу Белого старца-покровителя, дающего ценные советы и владеющего тайными знаниями. Советы мудреца Алтана Чееджи необходимы правителю Джангару в различных ситуациях: чтобы одержать верх над богатырем-антагонистом, соблюсти условия ультиматума хана-антагониста, узнать местонахождение страны хана-антагониста и его намерения в отношении страны Джангара, организовать поиски героя, способного выполнить поручение Джангара, предупредить героев о путевых вредителях и препятствиях.
Как правило, советы мудреца Алтана Чееджи основаны на даре предсказаний, и в итоге все исполняется с учетом его предсказаний и рекомендаций. К разряду типологических относится мотив совета Алтана Чееджи, предупреждающего героев о путевых вредителях и препятствиях:
«[Алтан Чееджи] стал справляться о том, как они втроем пребывают, и [заметил], что если на них нагрянет противник, а оружие их находится по трем сторонам. Затем пояснил, что он приехал сказать им два-три слова. Когда они выедут и промчатся трехмесячный путь, им встретится одна прекрасная девушка с мешком из тигриной шкуры за спиной. В сиянии ее [красоты] табун стеречь можно, в свете, исходящем от нее, продевать нить в ушко иглы можно. Пять видов яств преподнеся, напевая, выйдет навстречу им она и скажет, что, видно, трое младших братьев ее издалека прибыли и, наверное, испытывают жажду и голод. Тут им следует выпустить вперед Аранзал Зеерде, Алтан Шаргу - последним, а посре- дине пропустить Арак Улана. Когда она своим стальным саженым клювом будет пытаться схватить Алтан Шаргу за хвост, пусть сын Хонгора, Хошун Улан, что мысли на сажень быстрее, а ветра на полсажени быстрее, сидя верхом на Алтан Шарге, рубанет сверху три раза искусным желто-пестрым мечом с двенадцатисаженной рукоятью. Та бесовка должна отстать. Во-первых, он хотел им поведать об этом. В дальнейшем пути, когда они будут скакать в течение трех месяцев, им встретится непроходимая десятислойная глиняная гора. Если пустят вперед скакуна Арак Улана, щипавшего особые белые коренья [трав], пившего воду многих родников, на десятислойную глиняную гору раз десять взбиравшегося, тот сможет найти путь и выйти - об этом во-вторых он хотел им рассказать. В-третьих же, когда они приблизятся к десятиярусному злато-желтому дворцу рожденного богатырем Бадмин Улана, то обнаружат крепостную стену из стальных копий. Тут надо пустить вперед скакуна Алтана Шаргу, что мысли на сажень быстрее, ветра на полсажени быстрее, обладающего сноровкой проходить сквозь ушко китайской иглы. Он сможет вывести их. Что им делать дальше, сын Хонгора Хошун Улан должен знать. Сказав [юным богатырям] обо всем этом, почтенный Алтан Чееджи отправился назад» [Джангар 2005-2008, II, 532-534].
Мотив совета в основном связан с мудрецом Алтаном Чееджи. Но есть ситуации в медиальной части сюжетного повествования, когда герою необходим совет во время его пребывания в «чужом» локусе. В ситуации, когда герой находится в затруднительном положении на чужбине, помощь ценным советом ему оказывает конь или девушка-помощница. Одной из основных функций коня, особенно во время пребывания в «чужом» локусе, является всемерная помощь своему хозяину Конь наделен человеческой речью и дает своему хозяину советы: когда на своем пути богатырь встречает некое препятствие, конь советует богатырю, как его преодолеть; когда богатырь терпит поражение или находится в отчаянии, конь своими речами вселяет уверенность и поднимает дух героя.
В структуре эпического сюжета наблюдается устойчивая последовательность типических мотивов, играющих организующую роль в сложении эпического сюжета: поимка коня - седлание коня - снаряжение в путь героя - отправление в путь героя.
Излюбленные сказителем эпизоды строятся на мотивах поимки и седлания коня. В архаической эпике пойманный конь вначале расспрашивает героя о его стране и предках, а затем под предлогом избавления от жеребячьего испуга устраивает испытание герою, пытаясь сбросить наездника. Герою же следует приручить коня. В поздних сюжетах по велению героя на поимку коня обычно отправляется конюший: «Богатый Ясновидец Алтан Чееджи распорядился привести и оседлать славному нойону Джанга-ру жеребца Нярхен Зеерде, отца коня Аранзала Зеерде. Могучий смуглолицый стремянный, взяв с собой узду с бронзовыми удилами величиной с человека, взяв жестяную серебряную уздечку, [отправился за конем]. Поймал жеребца Нярхен Зеерде, пасшегося на траве зеленых лугов у холодных вод родников» [Джангар 2005-2008,1, 341].
В кочевом обществе с широко развитым культом коня связаны идеализированные представления о красоте богатырского коня и его снаряжения. «Седлание коня в самом детальном и последовательном описании всего процесса присутствует в каждой главе как необходимый элемент сюжета, причем этому подробнейшему повествованию не может помешать самая срочная по ходу событий необходимость немедленного выступления в поход» [Кичиков 1976, 89]. Одно из универсальных описаний седлания коня в синьцзян-ойратской версии следующее:
«Выдерживавшегося на привязи, могучего, что мог перекинуть гору, стремительного, что мог землю кругом обежать, Оцол Кёке Галзана привели и начали седлать. Без шерстобитной палочки свалянный, украшенный серебряными нитями подпотник положили. Сто старух раскладывали шерсть для него, семьдесят старух валяли, белый, словно вата, размером со степь потник положили. С деревянными боковинами, с изогнутыми серебряными луками тяжелое черное седло, сделанное в виде холма, на прекрасную спину его, подобную рыбе, с трудом наложили. Мелким плетением сплетенные шестьдесят четыре ремешка подпруги затянули так, что слоистый белый жир живота свернулся в семьдесят две складки, затянули еще сильнее, что меж восьми ребер катауры вошли, мышечная ткань едва не порвалась, и чуть не утратилось зрение. Серебряный нагрудный ремень, сдавив ключицу, надели. Придавив выпирающие тазобедренные две кости, надели подхвостный серебряный ремень с мелкими узорами в виде насекомых. Ременные белые поводья закинули за изогнутые деревянные луки. Натянули поводья, и конь встал [неподвижно], словно скала, словно [замок] на сундук, надели путы на него» [Джангар 2005-2008,1, 479].
Мотив снаряжения героя в путь включает описание облачения героя в одежды и боевые доспехи, а также снаряжение оружием. Изложение снаряжения героя в эпосе строго последовательно и содержательно устойчиво - вначале описывается облачение героя в одежды и боевые доспехи, а затем его богатырское оружие: «Хан нойон Джангар надел свободно накинутый без рукавов, разукрашенный бабочками, легкий черный шелковый бешмет. У горла застегнул серебряную пуговицу, у талии шесть пуговиц застегнул, надел в три слоя боевые латы, опоясался железным поясом лу-данг. [Джангар] взял в руки черную огрубевшую плеть и сжал в руках [ее] так, что на рукояти проступил древесный сок. Взял свое золотое желтопестрое копье» [Джангар 2005-2008,1, 342].
Мотив отправления в путь героя из страны Джангара носит сугубо ритуальный характер и связан с убеждением, что надлежащее исполнение ритуальных действий обеспечит удачу и защиту герою, а их нарушение повлечет опасность. Мотив включает следующие устойчивые элементы: оценка достоинств героя сайдами и богатырями, ритуальное распитие арзы, объезд посолонь священных мест Бумбайской державы (дворца Джангара, буддийской обители), напутственные благопожелания.

«Раскрыв свои широкие ладони, размером с хотой богатого кочевья, [Санал] произнес свои прекрасные, как лотос, благопожелания: пусть вскоре великий нойон богдо Джангар и восемь тысяч богатырей-соратников его прекрасно встретятся с ним. Едва почтенный Алтан Чееджи успел произнести свои прекрасные, как лотос, благопожелания, чтобы он, Строгий Смуглолицый Санал, враждебно настроенных [врагов] к колену преклонил, заносчивых [врагов] к стремени преклонил, на лбу Буурал Галзана своего солнце возведя, на крупе его луну возведя, золотые поводья вправо повернув, скорее вернулся домой. [Санал,] высокий желто-пестрый дворец по ходу солнца объехав, вдоль окраин многомиллионного владения поскакал и направился на юго-запад» [Джангар 2005-2008,1, 414-415].
Отправление в путь эпического героя имеет определенные цели: из страны Джангара герой отправляется в страну хана-антагониста с целью исполнить поручение, возложенное на него Джангаром; Джангар с богатырями отправляется на помощь герою, ведущему сражение с антагонистом. Герой или Джангар могут отправляться в путь и с иными целями -сватовство невесты для героя; заключение воинского союза с иноземными ханами и др.
Мотив преодоления пути героем в структуре эпического сюжета также имеет типовой характер, как и локусы, в которые направляется и в которых перемещается герой, способы и характер перемещения героя, путевые встречи. Как правило, в эпосе герой, осваивая неизведанные пространства, направляется на чужую территорию, представляющую для него большую опасность. Преодоление и освоение пути в неизведанное пространство является уделом эпического героя. Преодолевая препятствия и испытывая трудности в пути, герой проходит определенные инициации, что непосредственно связано с процессом познания «чужого мира и пространства».
Мотив преодоления пути носит типовой варьируемый характер и охватывает широкий тематический ракурс: герой преодолевает путь между локусами после остановок, включающих отдых в пути и встречи; герой преодолевает дальнейший путь в страну антагониста и совершает обратный путь домой из страны хана-антагониста. Один из типовых вариантов темы представлен следующим образом:
«[Кёке Галзан] помчался прыжками, будто выскочивший из осоки сизо-белый заяц. Восемнадцать тысяч раз взметнувшись вверх, поскакал, восемнадцать тысяч раз припав к земле, поскакал. От дыхания [коня] трава перед ним выгорала. Копыта его размером в пядь мелькали, черные круглые глаза его вспыхивали пламенем, от развевающейся кораллово-жемчужной гривы его исходили звуки ятхи и арфы. От колыхания его пышного хвоста в восемьдесят одну сажень исходили звуки фанфар. От разлетавшихся комков глины из-под четырех копыт его по четырем сторонам света образовались четыре горы. Белеющую голую степь, всю до краев преодолев, мчался, бледно-белую гору преодолев, мчался. Мчался, преодолев по времени расстояние того года и видя лик следующего за ним года» [Джангар 2005-2008,1, 480-481].
Пространственные зоны перемещений героя представляют собой ландшафт эпического мира, который конструируется при помощи разнообразных топонимических реалий (стран, гор, океанов, морей, рек, долин, скал, перевалов и др.). Маркерами и ориентирами эпического пространства для героя выступают знаки, представленные приметными объектами ландшафта кочевника, так называемыми «твердыми пунктами ориентирования».
Временная протяженность пути героя измеряется обычными единицами времени жизни кочевника (день пути верхом, месяц пути верхом, год пути верхом) и представлена рядом соответствующих формул: «не считая дней и ночей, скакал [герой]»; «проскакал путь, равный полным трем месяцам»; «[конь] расстояние в девять месяцев преодолел за девять суток». Единицей измерения являются также сутки (хонг), которые соотносятся с замкнутым временным циклом и определяются пределами от восхода до восхода солнца: «преодолел расстояние трижды по семь суток»; «семью семь сорок девять суток проскакал»; «[в пути] проспал семью семь сорок девять суток»; «океан Ганг Мёнге преодолел на седьмые сутки»; «проскакал расстояние в полных три месяца суток»; «четверо суток на коне Буурал Галзане без сознания проехал»; «дважды по семь суток, преследуя, бежал» и др.
В системе эпического сюжета особый статус и сюжетообразующее значение имеет мотив сражения / поединка, непосредственно связанный с главной эпической коллизией и обусловленный концепцией героического. Тематический диапазон мотива довольно широк и разнообразен: поединки героя с ханом-антагонистом; с преследующими его в погоне; поединки Джангара с ханом-антагонистом; сражения героя с войском хана-антаго-ниста; сражения героя и богатырей с ханом-антагонистом и его войском; поединки героя с богатырями хана-антагониста:
«Когда Санал проскакал расстояние трехмесячного пути, стараясь уйти незамеченным [от преследователя], на буланом коне величиной со скалу, размахивая секирой, его настиг богатырь Гунан Хара Бюргюд. Развернувшись на скаку навстречу [противнику], Санал посмотрел внимательно и понял, что [противник] не упускает добычу, попавшую ему в руки, не промахивается, когда наносит удар секирой, и, что он искусно владеет ею. Санал, держа в правой руке желтую секиру Тяжелорукого Савара с восмидесятисаженной рукоятью, встретил противника и ринулся на него. Гунан Хара Бюргюд нанес Саналу удар в тот миг, когда ловкий Буурал Галзан, рядом с противником проскользнув, на двадцать саженей прыгнув, уже уходил. От удара противника на правой лопатке Санала разбились семьдесят две застежки. Хара Бюргюд в уши проворному Буурал Галзану кричал, касаясь трубчатых костей коня, наносил удары. Санал сзади нанес ответный удар Гунан Хара Бюргюду, разбил его огромных восемь шейных позвонков, крепкие черные ребра его сломал, лишил его сознания и всех чувств, оборвал зрительный нерв его суровых черных глаз, и тот припал к гриве буланого коня. Затем, схватив его за железный пояс луданг, притянув, придавил его к луке седла, связал четыре конеч- ности его на пояснице, подобной наковальне и, перекинув его поперек седла [его] буланого коня, вместе с восьмитысячным табуном погнал» [Джангар 2005-2008, I, 424-425].
Наиболее полный вариант богатырского поединка имеет следующее структурное оформление: герой просит у Джангара позволения совершить нападение на богатыря-антагониста; получив разрешение, герой вступает в поединок с богатырем-антагонистом; сражаясь на равных, ни один из богатырей не может одолеть другого; слова ободрения Джангара или собственного коня придают герою силы и воодушевление; герой просит коня изловчиться и помочь ему одолеть противника; вступив в схватку с врагом, герой наносит решающий удар и побеждает в поединке.
Таким образом, в синьцзян-ойратской версии «Джангара» имеется устойчивый и повторяющийся арсенал типических мотивов, функционирующий в составе системы и находящий свое определенное место в структуре сюжета. Анализ выявил ряд важных функциональных и семантических особенностей типических мотивов (пира, получения вести / послания, совета, поимки коня, седлания коня, снаряжения героя, отправления в путь героя, преодоления пути, сражения / поединка) в контексте эпического сюжета. Мотив пира обрамляет эпический сюжет и носит характер отправного элемента в его развитии. Мотивы вести / послания и совета имеет прагматическую функцию от которой зависит дальнейшее развитие сюжетных событий. Устойчивая цепочка мотивов поимки коня - седлания коня - снаряжения в путь героя - отправления в путь героя играет организующую роль в сложении сюжета, а мотив сражения / поединка имеет сюжетообразующее значение.
Несмотря на тематическое разнообразие и вариативность, мотивы обнаруживают типические свойства на структурном и содержательном уровнях, очевидна универсальная модель построения и развертывания мотивов. Типические свойства характеризуются определенными релевантными признаками и маркирующими элементами, где важную роль играют облигаторные акторы, локусы, темпоральные признаки, эпические хронотопы и хроноакты. В семантике типических мотивов находят отражение архаическая символика и мифология, традиционные этнические ритуалы, обряды и верования, история и быт монгольских номадов, а также эпические концепты.
Список литературы Функционально-семантические особенности типических мотивов в сюжете синьцзян-ойратской версии "Джангара"
- Веселовский А.Н. Поэтика сюжета // Веселовский А.Н. Избранное: историческая поэтика. М., 2006. С. 533-652.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Элиста, 2005-2008.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса "Джангар": Вопросы исторической поэтики. Элиста, 1976.
- Мельникова Е.А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.
- Путилов Б.Н. Мотив как сюжетообразующий элемент // Типологические исследования по фольклору. Сб. статей памяти В.Я. Проппа. М., 1975. С. 141-155.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
- Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011.