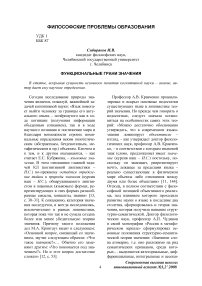Функциональные грани значения
Автор: Сибиряков И.В.
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Философские проблемы образования
Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье, вскрывая сущность основного понятия когнитивной науки - знание, автор дает ему научное определение.
Короткий адрес: https://sciup.org/14239348
IDR: 14239348 | УДК: 1
Текст научной статьи Функциональные грани значения
В статье, вскрывая сущность основного понятия когнитивной науки – знание, автор дает ему научное определение.
Сегодня исследование природы значения является, пожалуй, важнейшей задачей когнитивной науки: «Язык помогает выйти человеку за границы его актуального опыта… почёрпнутого как в ходе когниции (получения информации обыденным сознанием), так и в ходе научного познания и постижения мира и благодаря возможности строить номинальные определения неким гипотетическим (абстрактным, безденотатным, метафизическим и пр.) объектам. Ключом и к тем, и к другим оказываются, – как считает Е.С. Кубрякова, – языковые значения . В этом отношении главной задачей КЛ (когнитивной лингвистики – И.С. ) по-прежнему остаётся определение тайны и природы значения (курсив наш – И.С. ), обнаруживаемого лингвистом в знаковых (языковых) формах, репрезентирующих в этих формах разнообразные смыслы, концепты, знания» [13, с. 30–31]. К сожалению, категория значения исследуется, и всегда исследовалась, исключительно в рамках лингвистики, которая пока что так и не сумела создать более или менее убедительную теорию значения. Причину такого положения дел М.А. Кронгауз видит в следующем: «Основной вопрос, связанный со значением, звучит следующим образом: «Что такое значение?»… Обычно его заменяют другим: «Что понимается под значением?». Но и этот вопрос достаточно сложен» [12, с. 53].
Профессор А.В. Кравченко проанализировал и вскрыл основные недостатки существующих ныне в лингвистике теорий значения. Но прежде чем говорить о недостатках, следует сначала остановиться на особенностях самих этих теорий: «Можно достаточно обоснованно утверждать, что в современном языкознании доминирует объективизм – взгляд, – как утверждает доктор филологических наук, профессор А.В. Кравченко, – в соответствии с которым языковой знак (слово, предложение) имеет значение (курсив наш – И.С.) постольку, поскольку он замещает, репрезентирует нечто, лежащее за пределами языка – реально существующие в физическом мире объекты либо отношения между двумя или более объектами» [11, 144]. Отсюда, в полном соответствии с философской позицией объективного реализма, под влиянием которого проходило развитие науки о языке в последние два столетия, сформировалась и теория значения, которая получила название структурно-семантической. Доктор филологических наук, профессор А.П. Чудинов в своей монографии «Россия в метафорическом зеркале» сформулировал основные положения структурно-семантической теории значения: «Значение слова атомарно, т.е. оно разложимо на ряд семантических признаков, среди которых… выделяются категориальные, дифференциальные, интегральные и ассоци- ативные (в других концепциях количество выделяемых типов сем обычно увеличивается). Важно максимально полно определить число образующих значение сем, выявить их статус и специфику взаимосвязей» [18, с. 33].
Анализ критической литературы, касающейся структурно-семантической теории значения, показывает, что сегодня эта теория безнадёжно устарела и не отвечает требованиям современности. В основе причин такого сложившегося неудовлетворительного положения дел в структурно-семантической теории значения находятся, как считает А.В. Кравченко, две догмы, родившиеся вследствие неверного понимания природы языкового значения. В основе первой догмы лежит ошибочное представление об автономности языкового значения: «В соответствии с первой догмой, - указывает А.В. Кравченко, -значения суть нематериальные предметы, а область языковых значений независима (курсив наш - И.С.) от материального мира, она существует в сфере «мыслительных объектов» (ментальных репрезентаций)» [11, с. 140]. В основании второй догмы лежит неверное представление о композиционности языкового значения: «В соответствии со второй догмой, значения могут быть разложены на (нематериальные) атомарные объекты, - пишет А. Кравченко, - реально допустимые сочетания которых образуют значения языковых выражений; сами же атомы (так называемые «семы») остаются неизменными (курсив наш - И.С.) в своих различных сочетаниях» [11, с. 140]. Таким образом, поскольку структурно-семантическая теория значения утверждает, что «сами же атомы (так называемые «семы») остаются неизменными», она тем самым отрицает возможность развития значений слов. А ведь ещё Л.С. Выготский убедительно доказал, что «когда ребёнок впервые узнаёт значение (курсив наш - И.С.) нового для него слова, процесс развития понятия не заканчивается, а только начинается» [5, с. 191]. Если выразится метафорически, то значение -это «организм», который «рождается, развивается и умирает». Всё это означает, что структурно-семантическая теория отрицает факт развития значения.
Структурно-семантическая теория значения и сейчас остаётся господствующей во всех академических учебниках и опирается на пресловутый треугольник Ч. Огдена и И. Ричардса:
мысль знак референт репрезентирует
Рис. Семантический треугольник
В этом треугольнике представлена суть знакового отношения, которое сегодня продолжает занимать прочные позиции в науке благодаря наследию европейского структурализма.
Здесь хотелось бы обратиться за помощью к А.В. Кравченко: «Треугольник Огдена - Ричардса иллюстрирует так называемую «произвольность» отношения между телом знака и его референтом в реальной (материальной, неязыковой) действительности… эта произвольность объясняется тем, что, воспринимая и отображая реальный мир, человек оперирует образами и понятиями (уровень ментальной активности), вывод которых вовне и передача другим активным сознаниям в процессе коммуникации невозможны без посредничества некоторых сущностей, устанавливающих связь между миром материального (реально существующими физическими предметами и отношениями между ними) и миром идеального (мыслями человека об этом мире). Такими посредниками, - пишет учёный, - и являются естественноязыковые знаки (соссюровы «акустические образы»), связанные со своими референтами незначащей, опосредованной (по выражению Огдена и Ричардса) связью, в то время как между мыслью и материальным предметом (явлением), с одной стороны, и между мыслью и знаком, с другой стороны, связь имеет значащий характер. Именно в силу того, что эти две стороны треугольника суть значащие связи, знак, во-первых, приобретает способность репрезентировать (иному сознанию) материальный, объективный мир, ибо отношение между мыслью и предметом не зависит от отношения между предметом и его знаком, а во-вторых, характер его связей со всеми возможными референтами может быть описан исчерпывающим образом, поскольку при двух известных (определённых) сторонах треугольника количество допустимых значений для третьей стороны ограничено» [11, с. 144–145].
Если подойти к семантическому треугольнику Огдена – Ричардса со структуралистских позиций как к автономной знаковой системе, в которой область языковых значений независима от материального мира, поскольку она существует в сфере «мыслительных объектов» (ментальных репрезентаций), то такая трактовка языкового знака не вызывает особых возражений. «Однако, – как считает А.В. Кравченко, – это далеко не так, поскольку для каждого отдельного человека как пользователя языка то, что мы называем языковыми знаками – не что иное, как всего лишь один из множества типов естественных материальных сущностей (предметов, явлений), взаимодействуя с которыми человек открывает для себя их значение (курсив наш – И.С.) как наличие определённой значимой связи с другими проявлениями материального мира, включая человека говорящего, homo loquens во всех аспектах его деятельности – в том числе и мыслительной. В классическом же семантическом треугольнике не находится места фактору иного сознания, без которого любое схематическое представление се- миозиса оказывается губительно ущербным» [11, с. 151–152]. И здесь следует особо подчеркнуть, что в процессе исследования природы значения на фактор необходимости наличия иного сознания в своё время обратил внимание и Л.С. Выготский: «Люди общаются друг с другом значениями только в меру развития значений. Схема здесь: не человек – вещь (Штерн), не человек – человек (Пиаже). Но: человек – вещь – человек» [4, с. 167].
В свете вышеизложенного становится ясным, что к исследованию природы значения следует подходить с таких позиций, в которых постоянно учитывался бы фактор иного сознания . Представляется весьма интересным исследовать природу значения с позиций шахматной игры.
При анализе всего многообразия шахматной литературы довольно часто встречается термин значение. Так, например, шестой чемпион мира по шахматам М.М. Ботвинник, комментируя свою партию с Г. Абрамовичем, пишет буквально следующее: «Этот размен решает; лишняя фигура белых не имеет большого значения» (курсив наш – И.С.) [2, с. 149]. И это не единственный комментарий М.М. Ботвинника: «Эта позиция имеет важнейшее значение» (курсив наш – И.С.) [2, с. 276]. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов также нередко в своей лексике использует термин значение: «Пешка h2 не имеет значения (курсив наш – И.С.), главное – не дать неприятельскому ферзю активизироваться на королевском фланге» [8, с. 14]. Наконец, ещё один комментарий А. Карпова, в котором также фигурирует термин значение: «Маневр 14. Ке4 не имел самостоятельного значения…» (курсив наш – И.С.) [8, с. 71]. А вот ещё один пример, который показывает, что значение может иметь не только ход или фигура, но даже и сама конкретно сыгранная партия: «Меня допустили к участию лишь по настоянию моего учителя Ботвинника, – пишет Г. Каспаров, – поэтому результат имел важное значение (курсив наш – И.С.) не только для моей, но и для его репутации» [9, 256]. Иллюстрацию цитат, конечно же, можно было бы и продолжить, но и так нетрудно заметить, что в шахматах значение имеет буквально всё: фигура, позиция, пешка, маневр и т.д. Однако, к сожалению, в шахматной литературе до сих пор ещё не встречается определения этого термина.
Здесь целесообразно, пожалуй, обратиться к теоретическому наследию Л.С. Выготского, который в работе «Проблема сознания» писал буквально следующее: «Знаку присуще значение» (курсив наш – И.С.) [4, с. 158]. В другом месте всё той же работы он категорически утверждал: «Нет вообще знака без значения (курсив наш – И.С.). Смысло-образование есть главная функция знака. Значение есть всюду, где есть знак. Это есть внутренняя сторона знака. Значение присуще знаку» [4, с. 162]. Следует обратить особое внимание на то, что в шахматах всё без исключения является знаками: шахматное поле, шахматная фигура, шахматная нотация и т.д. Можно категорически утверждать, что шахматы, по сути дела, это игра в знаки. Более того, значения в шахматах формируются без помощи слова, поскольку в процессе игры в шахматах не поощряется, а даже нередко и запрещается, вербализованное общение. Говоря другими словами, в шахматах функционирует невербализованное мышление. Вернёмся, однако, к Л.С. Выготскому, который, к сожалению, так и не успел создать более или менее последовательную теорию значения, хотя и известно, что в последние годы жизни он напряжённо над ней работал: «Отношение деятельности к переживанию (проблема значения)» [4, с. 157], – в этой цитате указано всего лишь направление, в котором следует исследовать феномен значения. Не дают ответа на этот вопрос и другие его размышления: «Значение есть путь от мысли к слову» [4, с. 160]. Однако каков этот путь, так и осталось неясным. Не уда- лось найти ясного определения значения и в других работах Л.С. Выготского: «С психологической точки зрения значение слова прежде всего представляет собой обобщение» [5, с. 17], – подчёркивает учёный в своей самой известной работе «Мышление и речь». В другом месте всё той же знаменитой работы автор вообще категорически заявляет: «Обобщение и значение слова суть синонимы» [5, с. 297]. Интересно было бы, конечно же, зн а ч е н и е свести к обобщению. Но дело здесь в том, что разные науки по-разному трактуют содержание понятия обобщение. В логике, например, обобщению даётся следующее определение: «Обобщение – это переход от объёма заданного понятия к понятию с большим объёмом (от вида к роду)» [17, с. 43]. Сам же Л. Выготский обобщение определял следующим образом: «Обобщение есть выключение из наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры» [4, с. 167]. Однако из контекста трудов учёного непонятно, как же всё-таки функционирует механизм включения «в смысловые структуры». Таким образом, в трудах Л.С. Выготского не встречается чёткого определения категории значения. Тем не менее, нетрудно заметить, что учёный всё время категорию значения связывал со словом, т.е. он разрабатывал теорию именно языкового значения. Именно поэтому целесообразно проанализировать категорию значения в шахматах, в которых процесс мышления не связан со словом, и именно здесь обнаруживаются удивительные грани значения.
С этой целью необходимо обратиться к творчеству Л. Витгенштейна, который впервые в науке сопоставил значение в шахматах и в языке. Однако к компаративному анализу значения в шахматах и языке австрийский философ пришел не сразу, а с помощью сопоставления терминологических конструкций «шахматная игра» и «языковая игра». Он специально вводит в свои сочинения терминологическую конструкцию «шахматная игра». Но что характерно, философ использует данную конструкцию преимущественно в контексте тех своих рассуждений, где речь идёт о «языковой игре» – «ключевом понятии философии позднего Витгенштейна», – как указывает в статье «Идея «языковых игр»» доктор философских наук М.С. Козлова [10, с. 5]. Обращает на себя внимание также тот факт, что параллельное употребление этих двух терминологических конструкций довольно часто сопровождается использованием логического приёма аналогии. Убедительной иллюстрацией к сказанному может послужить следующий пример: «Вопрос «Чем реально является слово?», – спрашивает себя Л. Витгенштейн, – аналогичен (курсив наш – И.С.) вопросу «Что такое шахматная фигура?»» [3, с. 427]. В отечественной философской науке, пожалуй, только лишь А.Ф. Грязнов обратил внимание на факт активного использования Л. Витгенштейном приёма аналогии «языковой игры» с «шахматной игрой»: «Для того чтобы исследовать использование лингвистических знаков, Витгенштейн и вводит получившее большую известность понятие «языковая игра». В ранний период он широко пользовался аналогией (курсив наш – И.С.) с шахматной игрой, – пишет автор «Аналитической философии». – Позднее он продолжал пользоваться этой аналогией (курсив наш – И.С.), но уже перестал считать правила шахматной игры наиболее типичными для всего класса игр. Такого «общего», с его точки зрения, просто не может быть» [6, с. 153]. К сожалению, своё утверждение, будто Л. Витгенштейн в поздний период творчества «перестал считать правила шахматной игры наиболее типичными для всего класса игр», А.Ф. Грязнов почему-то не посчитал необходимым обосновать какими-либо конкретными ссылками на труды австрийского философа. А это имеет большое теоретическое значение, поскольку из приведенной выше цитаты следует, будто Л. Витгенштейн искал нечто «общее»
исключительно с целью создания некоей теории игр, что не соответствует истине.
Однако, как верно подметил А.Ф. Грязнов, Л. Витгенштейн действительно «широко пользовался аналогией (курсив наш – И.С .) с шахматной игрой», причём не только в ранний период своего творчества, но также и в последних своих сочинениях. Более того, есть основания для утверждения, что философ обращался к упомянутой аналогии вполне сознательно, о чём свидетельствует содержание написанного им «Предисловия» к «Философским исследованиям»: «Публикуемые здесь мысли – конденсат философских исследований, занимавших меня последние шестнадцать лет. Они касаются многих вопросов: понятия «значение», понимания, предложения, логики, оснований математики, состояний сознания и многого другого… Я с самого начала намеревался объединить все эти мысли в одной книге… Но мне казалось существенным, чтобы мысли в ней переходили от одного предмета к другому в естественной последовательности» [3, с. 220]. Исходя из изложенных выше пожеланий самого автора, вполне логично предположить, что его обращение к шахматам уже на первых страницах «Философских исследований» целиком отвечало стремлению Л. Витгенштейна переходить «от одного предмета к другому в естественной последовательности». И как показывает анализ его последних сочинений, переход этот философ осуществлял преимущественно с помощью разнообразнейших аналогий . В качестве иллюстрации к сказанному целесообразно обратиться к следующей цитате из «Философских исследований» Л. Витгенштейна: «Причисление образцов к инструментам языка наиболее естественно и ведёт к наименьшей путанице… Подумай о различных точках зрения, исходя из которых можно сгруппировать инструменты по их типам. Или шахматные фигуры – по типам фигур» [3, с. 231]. Приведенный выше пример – это первый случай использования Л.
Витгенштейном в рассматриваемом сочинении аналогии шахмат с «языковой игрой». И уже здесь отчётливо заметными являются факты, до сих пор почему-то ускользавшие от глаз исследователей.
Во-первых, А.Ф. Грязнов, указавший на широкое использование аналогий в творчестве Л. Витгенштейна, к сожалению, гносеологической функции её в «Философских исследованиях» не проанализировал. А ведь аналогия в теории познания является одним из важнейших метафорических механизмов формирования нового знания! Обратимся к основоположнику теории метафоры Аристотелю, который в «Поэтике» писал об аналогии следующее: «Переносное слово (metaphora) – это несвойственное имя, перенесённое с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии (курсив наш – И.С.)» [1, с. 669]. Причём, что показательно, Аристотель считал аналогию важнейшей из всех метафорических построений. Традиция эта, впрочем, дожила вплоть до настоящего времени. Так, например, один из основоположников сравнительного направления в теории метафоры Дж. Миллер утверждал, что «метафора – это стянутое сравнение и что вызванная ею мысль касается сходств и аналогий» (курсив наш – И.С.) [15, с. 236]. Ну а современная наука вообще считает метафору одним из важнейших когнитивных инструментов формирования нового знания: «Абстрактные концепты создаются преимущественно метафорически», – указывает Е.С. Кубрякова [14, с. 21]. Таким образом, имеются все основания для утверждения, что Л. Витгенштейн вовсе не стремился к созданию некоей «концепции игр», как это пытаются представить некоторые исследователи его творчества, напротив, философ сознательно использовал приём аналогии «шахматной игры» с «языковой игрой», рассматривая эту разновидность метафорической конструкции в качестве когнитивного инструмента формирования нового знания. И такие метафоры- аналогии красной нитью пронизывают всю ткань его «Философских исследований». Это значит, что приём аналогии приобретает характер методологического основания творческого метода Л. Витгенштейна.
Во -вторых, – в приведенной выше цитате из «Философских исследований» Л. Витгенштейн использует ещё одну аналогию , которая также прошла мимо внимания исследователей. Речь идёт о метафорическом сопоставлении шахмат и имени (т.е. слова) – с одной стороны, и инструментов – с другой. Эти инструменты философ предлагал даже определённым образом классифицировать.
А то, что мыслитель под инструментам и понимал именно слово, а также и шахматы, которые выступают в качестве знака, не вызывает никакого сомнения: «Слово «обозначать» употребляется наиболее прямым образом, по-видимому, тогда, когда на обозначаемом предмете проставляется знак. Представь себе, что на инструментах, применяемых А в строительстве, проставлены определённые знаки. Когда А показывает помощнику один из таких знаков, тот приносит ему инструмент, помеченный этим знаком, – пишет Л. Витгенштейн. – Так или примерно так имя обозначает некоторую вещь, имя даётся вещи. Занимаясь философией, часто бывает полезно напоминать себе: наименование чего-то подобно прикреплению ярлыка к вещи» [3, с. 230–231]. Следует заметить, что в другом месте «Философских исследований» автор уже прямо называет имена именно знаками: «Но можно представить себе и языковую игру с именами (т.е. со знаками, которые мы, безусловно, назвали бы именами), где имена будут употребляться лишь при наличии носителя» [3, с. 250]. Весьма примечательно, что и З.А. Сокулер, исследуя метафорические аналогии Л. Витгенштейна между шахматами и математикой, назвала шахматные фигуры знаками, причём также сделала это с помощью метафорических по- строений: «Шахматная фигура, знаком которой выступает данная фигурка, определяется через её роль в системе правил шахматной игры… То же самое можно сказать и о любом математическом понятии. Его значение – это его употребление в соответствующей математической теории» [16, с. 112]. Вывод, таким образом, напрашивается сам собой: имена, так же как и шахматные фигуры, выступающие в роли инструментов, являются у австрийского философа знаками. Цепочка последовательно использованных метафорических аналогий шахмат с языком позволила философу позднее воскликнуть: «Язык – это инструмент. Его понятия – инструменты» [3, с. 435].
Аналогичную идею, согласно которой знаки являются инструментами, приблизительно в то же время что и Л. Витгенштейн, в 1930 г. высказал наш соотечественник Л.С. Выготский. Правда, в отличие от австрийского философа, Л.С. Выготский называет знаки не только инструментами, но и психологическими орудиями, а также искусственными приспособлениями. Своё понимание сущности знака Л.С. Выготский изложил в работе «Инструментальный метод в психологии», в которой в качестве синонима термина «знак» автор использует словосочетание «психологическое орудие». Л.С. Выготский многократно подчёркивал, что «психологическое орудие так же видоизменяет всё протекание и всю структуру психологических функций… как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций» [4, с. 103]. И чтобы у читателя не оставалось никаких сомнений, что под термином «психологическое орудие» подразумеваются разнообразные знаки и знаковые системы, Л.С. Выготский даёт достаточно подробное их перечисление: «Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.» [4, с. 103]. И далее, что представляется особенно важным, Л.С. Выготский скрупулёзно анализирует механизм функционирования психологических орудий, т.е. знаков и всевозможных знаковых систем.
Овладением знаковой, а точнее вербальной системой, т.е. системой, которая в психологии получила название второй сигнальной системы, открывается исторический этап в развитии человека. В чём же разница между естественными и искусственными, т.е. специфически человеческими, актами поведения? В том, что при непосредственном восприятии (естественный акт) какого-либо предмета, скажем в процессе запоминания, между дихотомическим отношением «раздражитель – рефлекс» устанавливается прямая, по Л.С. Выготскому, ассоциативная (условнорефлекторная) связь, т.е. связь между А и В . Когда же в эту связь внедряется психологическое орудие, иначе говоря знак ( Х ), то вместо «прямой связи А – В устанавливаются две новые: А – Х и Х – В ; каждая из них является таким же естественным условнорефлекторным процессом, обусловленным свойствами мозговой ткани, как и связь А – В ; новым, искусственным, инструментальным является факт замещения одной связи А – В двумя: А – Х и Х – В , – ведущими к тому же результату, но другим путём; новым является искусственное направление, данное посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, т.е. активное использование естественных свойств мозговой ткани» [4, с. 104]. Именно вот это внедрение искусственного образования, т.е. знака, в естественное отношение «раздражитель – рефлекс»
Л.С. Выготский называл инструментальным актом. Именно с этого момента и начинается исторический этап в развитии человечества: «Величайшим своеобразием инструментального акта… яв- ляется одновременное наличие в нём стимулов обоего порядка, т.е. сразу объекта (раздражитель - И.С.) и орудия (знак - И.С.), из которых каждый играет качественно и функционально различную роль. В инструментальном акте, таким образом, между объектом (раздражитель - И.С.) и направленной на него психической операцией (рефлекс - И.С.) вдвигается новый средний член - психологическое орудие (знак - И.С.), становящееся структурным центром или фокусом, т.е. моментом, функционально определяющим все процессы, образующие инструментальный акт. Всякий акт поведения становится тогда интеллектуальной операцией» [4, с. 105]. Остаётся только добавить, что с момента превращения инструментального акта в интеллектуальную операцию начинается когнитивно-дискурсивная деятельность человеческого сознания.
Как уже было сказано выше, метафорический приём аналогии знаков с инструментами впоследствии позволил и Л.С. Выготскому, и Л. Витгенштейну подойти к обоснованию деятельностного, функционального характера значения. Так, например, в соответствии с сознательно избранной подобной методологией исследования Л. Витгенштейн осуществил это следующим образом: «Представь себе инструменты, лежащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила, отвёртка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и винты. Насколько различны функции этих предметов, настолько различны и функции слов» [3, 229]. Из приведенной здесь цитаты следует, что технические инструменты, так же как и слова, которые, уже по Л.С. Выготскому, в сущности, являются психологическими инструментами, различаются по способу их применения, т.е. по их функциям. Отсюда Л. Витгенштейн и выводит своё знаменитое определение значения: «Для большого класса случаев - хотя и не для всех, - где употребляется слово «значение», можно дать следую- щее его определение: значение слова -его употребление в языке» [3, с. 20]. И, для усиления доказательной базы, философ как раз и использует ставшую известной аналогию с шахматами, поскольку в этой игре любая фигура приобретает своё значение исключительно в зависимости от способа её применения: «Мы говорим: значение пешки (фигуры), - пишет автор «Философских исследований», - это её роль в игре» [3, с. 433]. Таким образом, термин «языковая игра» является у Л. Витгенштейна всего лишь метафорой, с помощью которой он хотел подчеркнуть деятельностную, функциональную природу языкового значения.
С целью более убедительного подтверждения изложенного выше тезиса возникает необходимость указать на любопытный, но вместе с тем неоспоримый факт: в поисках метафорических аналогий для обоснования функционального характера своей трактовки значения Л. Витгенштейн нередко обращался не только к шахматам, но и к таким сферам человеческой деятельности, которые оказывались весьма далёкими от какой-либо теории игр. Но с «языковой игрой» всех их объединяло одно: в основе всех без исключения игр всегда лежали какие-либо знаки, т.е. психологические инструменты, а также всегда без труда обнаруживался способ их применения. В качестве примера можно сослаться на неоднократное обращение философа к музыке: «Понимание предложения в языке значительно более родственно пониманию темы в музыке, чем можно предположить. Я имею в виду вот что: понимание языкового предложения и то, что принято называть пониманием музыкальной темы, по своему характеру куда ближе друг другу, чем думают» [3, с. 424]. Нередко мыслитель ищет метафорические аналогии также и в живописи: «Если сравнивать предложение с картиной, то нужно подумать, с какой - с портретом ли (историческое изображение) или же с жанровой картиной. И оба сравнения имеют смысл» [3, с. 422–423].
Мысли о функциональном характере значения буквально пронизывают всё творчество Л. Витгенштейна: «Не считай само собой разумеющимся, что человек, вносящий знак, скажем – в календарь, отмечает нечто, – пишет философ. – Ибо знак имеет функцию» [3, с. 352].
А функция и проявляет себя при «работе» значения . Однако поскольку в творчестве Л. Витгенштейна в большинстве случаев знак ассоциируется со словом, это даёт ему основание для следующего утверждения: «Функция должна выявляться при оперировании словом» [3, с. 433].
И далее мыслитель с помощью испытанного приёма метафорической аналогии пытается сформировать в сознании читателя представление о функциональном характере значения: «К чему нам то же самое слово? Ведь это тождество не находит применения в исчислении [оперировании словами]! Почему одна и та же игровая фигура (шахматная фигура – И.С. ) служит двум разным целям?.. Да разве не с таким применением мы имеем дело, используя то же самое слово? Причём если тождество неслучайно, существенно, то кажется, что использование того же самого слова, той же самой фигуры имеет некую цель .
И что эта цель состоит в том, чтобы человек был способен узнавать фигуру и знал, как играть» [3, с. 434]. К сожалению, автор «Философских исследований» не счёл необходимым дать чёткое определение функции. Однако если учесть, что у Л. Витгенштейна «значение данного слова – это его употребление» [3, с. 433], которое «имеет некую цель », то, исходя из контекста его сочинений, следует понимать под функцией некую целеполагающую деятельность сознания в процессе формирования значений.
Деятельностный, функциональный ха рактер категории значения в понимании
Л. Витгенштейна особенно ощутим в следующем определении «языковой игры»: ««Языковой игрой» я буду называть также единое целое: язык и действия (курсив наш – И.С. ), с которыми он переплетён» [3, с. 223]. На функциональную природу значения постоянно обращал внимание и Л.С. Выготский: « Значение (курсив наш – И.С. ) и система функций внутренне связаны между собой» [4, с. 167]. Такой подход к природе значения, конечно же, вступал в противоречие с господствовавшей во времена Л. Витгенштейна и Л.С. Выготского структурно-семантической теорией значения.
Поразительно, но именно шахматы и позволяют проанализировать значение через призму деятельностей сознаний в процессе шахматной игры. Но ведь взаимодействие сознаний уже является коммуникацией: «Всякий знак, если взять его реальное происхождение, есть средство связи, и мы могли бы сказать шире – средство связи известных психических функций социального характера. Перенесённый на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе», – писал в своё время Л.С. Выготский [4, с. 116].
Выше уже говорилось о том, что шахматная игра является игрой в знаки. Знаками здесь является без исключения всё: и шахматная доска, и фигуры, и любое поле, и нотация и т.д. Следовательно, вся совокупность этих знаков является, по Л.С. Выготскому, «средством связи известных психических функций социального характера» для сознаний двух игроков в шахматы. Обратимся ещё раз к Л.С. Выготскому: «Изучая процессы высших функций у детей, мы пришли к следующему потрясшему нас выводу: всякая высшая форма поведения появляется в своём развитии на сцене дважды – сперва как коллективная форма поведения, как функция интерпсихологическая, затем как функция интрапсихологическая, как известный способ поведения. Мы не за- мечаем этого факта только потому, что он слишком повседневен и мы к нему поэтому слепы» [4, с. 115]. Таким образом, если следовать терминологии Л.С. Выготского, коммуникативная функция всей совокупности знаков в шахматной игре выступает одновременно в двух своих ипостасях: сперва как функция интерпсихологическая, являющаяся средством связи социального характера сознаний двух играющих шахматистов, а затем как функция интрапсихологиче-ская, т.е. функция «присвоения» знака каждым отдельно взятым сознанием конкретно взятого шахматиста. Так происходит коммуникативная взаимосвязь сознаний в процессе шахматной игры. Это и есть одна из основных и важнейших функций знака, без которой вообще невозможно какое-либо взаимодействие сознаний.
Теперь возникает необходимость снова обратиться к трудам Л. Витгенштейна, который обращает внимание на ещё одну важнейшую функцию знака: «Но известно ли тебе, – пишет философ, – также некое переживание, характерное для указания (курсив наш – И.С. ) на игровую фигуру именно как на фигуру в игре ? А между тем можно сказать: «Я имею в виду, что «королём» называется не конкретный кусок дерева, на который я показываю, а эта игровая фигура »» [3, с. 246]. В приведенной выше цитате акцент делается на указательную функцию знака. Следует обратить особое внимание на то, что указательную функцию знака автор «Философских исследований» связывает со значением слова: «Итак, можно сказать: указательное определение объясняет употребление – значение (курсив наш – И.С. ) – слова» [3, с. 241]. Характерно, что и Л.С. Выготский также выделяет указательную функцию знака (слова), но называет её индикативной : «В процессе эксперимента мы наблюдали неоднократно, что первичная функция слова, которую можно назвать индикативной функцией, поскольку слово указывает (курсив наш –
И.С. ) на определённый признак, генетически более ранняя, чем сигнификативная, замещающая ряд наглядных впечатлений и означающая их» [5, с. 182]. Следует особо подчеркнуть, что в шахматной игре индикативная (указательная) функция имеет большое значение, поскольку с помощью, по Ч. Пирсу, «знаков-индексов» мы выделяем нотацией те или иные фигуры или поля.
Также Л. Витгенштейн выделяет и функцию называния: «Я поясняю кому-нибудь шахматную игру и начинаю с того, что, показывая фигуру, говорю: «Это король. Он может ходить вот так и так и т.д.». В этом случае мы скажем: слова «Это король» (или «Это называется (курсив наш – И.С.) королём») лишь тогда будут дефиницией слова, когда обучаемый уже «знает, что такое фигура в игре»» [3, с. 242]. Выделяет функцию называния и Л.С. Выготский, но называет её номинативной: «В начале развития, – считает учёный, – в структуре слова существует исключительно его предметная отнесённость, а из функций – только индикативная и номинативная (курсив наш – И.С.)» [5, с. 313]. Выше уже говорилось о том, что исследование значения в шахматах отличается от анализа категории значения в языкознании, поскольку в процессе шахматной игры не используется, или почти не используется, вербальная деятельность. Однако мы не можем пройти мимо номинативной функции знака в шахматах, так как это выгодно подчёркивает возможности исследования в этой игре категории значения. Собственно говоря, когнитивная лингвистика и сама подчёркивает междисциплинарный характер этой науки: «В лингвистическом теоретизировании конца XX – начала XXI вв. когнитивная лингвистика занимает несомненно доминирующее место, в частности, и потому, что здесь на язык смотрят как на одну из «когнитивных областей» человека, связанных с другими областями и поэтому отражающих взаимодействие психологических, культурных, со- циологических, экологических и других факторов, – пишет В.З. Демьянков. – По-этому-то язык должен быть предметом междисциплинарного исследования – ведь структура языка зависит от «концептуализации», которая, в свою очередь, является результатом постижения человеком себя в окружающем пространстве бытия, а также выработки человеком отношений к этому внешнему миру» [7, с. 5]. Следует добавить, что шахматы также являются частью этого внешнего мира.
Выделяет также Л. Витгенштейн и чувственную функцию слова (знака): «Причинность – это то, что устанавливается в эксперименте, скажем, когда наблюдается регулярное совпадение процессов. Как же в таком случае можно заявлять, что чувствуешь то, что устанавливается опытом?.. Уж скорее можно было бы сказать: я чувствую (курсив наш – И.С. ), что буквы служат основанием того, почему я читаю таким образом… Но что значит чувствовать это основание для высказанного или мыслимого? Я сказал бы: при чтении я чувствую (курсив наш – И.С. ), – подчёркивает философ, – какое-то влияние на меня букв – но не влияние ряда завитушек произвольной формы на то, что я говорю» [3, с. 318]. Характерно, что чувственную функцию Л. Витгенштейн постоянно связывает со значением: «Когда моя тоска прорывается в восклицании: «О, только бы он пришёл!» – то « значение» (курсив наш – И.С. ) этим словам придаёт определённое чувство (курсив наш – И.С. )» [3, с. 428].
Говорил о чувственной функции значения и Л.С. Выготский, но только связывал её с эмоционально-аффективной деятельностью сознания: «Каждой фразе, каждому разговору предшествует возникновение мотива речи – ради чего я говорю, из какого источника аффективных (курсив наш – И.С.) побуждений и потребностей питается эта деятельность» [5, с. 238]. В следующем рассуждении Л.С. Выготский уже прямо вплетает аф- фект в значение слова: «Слово вбирает в себя, впитывает из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аффективные (курсив наш – И.С.) содержания и начинает значить больше или меньше, чем заключено в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и вне контекста: больше – потому, что круг его значений расширяется, приобретая ещё целый ряд зон, наполненных новым содержанием: меньше – потому, что абстрактное значение слова ограничивается и сужается тем, что означает слово только в данном контексте» [5, с. 347]. Ну а если учесть, что под мышлением понимается знаковая, в том числе и вербальная, деятельность человеческого сознания, то несомненным становится важнейшая роль аффекта в процессах мышления: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, – неоднократно подчёркивал Л.С. Выготский, – потому что детерминистский анализ мышления необходимо предполагает вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или иную сторону» [5, с. 21].
В шахматах эмоционально-аффективная деятельность сознания проявляется очень ярко. Наблюдающие за игрой шахматистов нередко замечают эмоции, переполняющие соперников: они ликуют после удачного хода и глубоко огорчаются после неудачного, «живут» в ожидании свершения неких своих предчувствий. И эти эмоции, о которых впоследствии довольно часто вспоминают участники турниров, составляют канву любой шахматной партии. Так, например, А. Карпов, комментируя свою партию с Е. Гиком, писал по поводу эмоциональных переживаний своего противника следующее: «Но после взятия на g6 конём чёрные предвкушали (курсив наш – И.С. ) близкую победу – атака белых отбита» [8, с. 10]. А вот что пишет М.
Ботвинник в своих воспоминаниях о партии с В. Рагозиным: «Здесь я настолько был потрясён (курсив наш – И.С. ) всем ходом событий, что растерялся и немедленно проиграл партию» [2, с. 41]. Наконец, ещё одно воспоминание М. Ботвинника о юношеской встрече с Г. Абрамовичем: «Он был совершенно подавлен (курсив наш – И.С. ) и почти сразу допустил непоправимую ошибку» [2, с. 149]. И подобных примеров можно привести бесконечное множество.
Учитывая огромную важность эмоционально-аффективного фактора в протекании шахматной партии, великие шахматисты большое внимание всегда уделяли психологической подготовке: «Психология здесь очень важна, – считает Гарри Каспаров, – сколько бы это ни отрицали многие гроссмейстеры, утверждая: «Я играю против фигур». Даже в такой игре, как шахматы, имеющей вид математической головоломки, любой игрок получает большое преимущество при правильном психологическом настрое на каждом этапе работы, а не только за шахматной доской» [9, с. 248].
Компаративный анализ трудов Л. Витгенштейна и Л.С. Выготского, а также изучение творений выдающихся шахматистов позволили сделать ряд важных выводов. Несомненно, что именно шахматы позволяют рассматривать значение как деятельность, как процесс, в котором переплетаются коммуникативная, индикативная, номинативная и эмоционально-аффективная функции. Совокупная деятельность этих функций, возникающих при употреблении знака, образует значение. И здесь необходимо обратить внимание на интересное явление: ни одна из функций не выступает сама по себе. Дело в том, что знак в любой человеческой деятельности, а в данном случае в шахматной, возникает из необходимости взаимодействия сознаний. В шахматах это видно отчётливо, поскольку здесь «работает» невербальное мышление. В треугольнике Ч. Огдена и
И. Ричардса, о котором речь шла несколько выше, взаимодействие сознаний не отражено, поскольку там учитывается только одно сознание. А вот анализ функционирования значения в шахматах позволяет проследить как взаимодействуют сознания . Сначала значение знака (шахматной фигуры, поля и т.д.) выступает в виде коммуникативной функции, связывающей сознания играющих шахматистов. Затем в процессе игры к коммуникативной функции прибавляется индикативная, поскольку шахматист делает ход на какое-либо поле и обозначает ход фигуры с помощью нотации. Говоря другими словами, коммуникативная функция в этом случае неразрывно объединена с индикативной, поскольку опять-таки связывает сознания игроков. Почти одновременно с индикативной на сцену выступает номинативная функция, которая опять-таки оказывается неразрывно связанной с коммуникативной. Таким образом, коммуникативная функция выступает в роли некоего «моста», связывающего сознания играющих шахматистов подобно двум берегам одной реки.
Есть все основания для утверждения, что и эмоционально-аффективная функция также неразрывно связана с коммуникативной. Вот, например, как Гарри Каспаров описывает историю с доктором психологии Владимиром Зухарем: «Во время игры Зухарь сидел в четвертом ряду зрительного зала и неотрывно смотрел на Корчного. Его это нервировало и приводило в замешательство, и в конце концов он потребовал отсадить подальше «советского парапсихолога», якобы пытавшегося воздействовать на его мышление. Советская команда отвергла это требование и выдвинула встречные. Так началась безумная эпопея, в ходе которой Зухарь не раз менял своё место в зале. В противовес Зухарю Корчной пригласил собственного «парапсихолога», но тот не оправдал его надежд и вскоре был отставлен. Перед 17-й партией Корчной даже отказался начинать игру, пока Зухаря не пересадят подальше от сцены. Этот протест отнял у претендента те самые драгоценные минуты, которых ему потом не хватило, чтобы избежать грубой ошибки. В жестоком цейтноте он сначала упустил выигрыш, а затем угодил под мат и проиграл» [9, с. 254]. Отчётливо видно, что и эмоционально-аффективная функция также неразрывно связана с коммуникативной. Но это означает, что каждый из играющих в шахматы в приведенном выше примере действовал исключительно в рамках своей когнитивной области, в которой любая из существующих истин для каждого из играющих в шахматы зависела от опыта многих эмоционально-аффективных переживаний. На этом фоне коммуникация, неразрывно связанная с эмоциональноаффективными переживаниями, предстаёт как биологическое бытие человека, что и заставляет совсем по-иному взглянуть на природу значения. Эмоционально аффективную функцию целесообразно называть эмотивной.
Значение, таким образом, есть знаковое функциональное взаимодействие сознаний. Коммуникативную, индикативную, номинативную и эмотивную функции правильнее было бы называть компонентами. Сюда можно ещё добавить смыслообразующую компоненту, а также компоненту рационализации иррационального. Таким образом, значение есть совокупность конституирующих характеристик (компонент), определяющих функциональную направленность знака.
Список литературы Функциональные грани значения
- Аристотель. Сочинения [Текст]/Аристотель. -М.: Мысль, 1984. -830 с.
- Ботвинник, М.М. Аналитические и критические работы 1928-186: [Текст] Статьи, воспоминания/М.М. Ботвинник. -М.: Физкультура и спорт, 1987. -528 с.
- Витгенштейн, Л. Философские исследования [Текст]/Людвиг Витгенштейн. -М.: ООО «Изд-во АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2003. -С. 220-546.
- Выготский, Л.С. Собрание сочинений [Текст]/Л.С. Выготский. -М.: Педагогика, 1982.
- Выготский, Л.С. Собрание сочинений [Текст]/Л.С. Выготский. -М.: Педагогика, 1982.
- Грязнов, А.Ф. Аналитическая философия [Текст]/А.Ф. Грязнов. -М.: Высшая школа, 2006. -375 с.
- Демьянков, В.З. Studia Linguistica Cognitiva -призыв к сотрудничеству [Текст]/В.З. Демьянков. -М.: Гнозис, 2006. -С. 5-7.
- Карпов, А.Е. Мои лучшие партии [Текст]/Анатолий Карпов. -М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2002. -400 с.
- Каспаров, Г. Шахматы как модель жизни [Текст]/Гарри Каспаров. -М.: Эксмо, 2007. -352 с.
- Козлова, М.С. Идея «языковых игр» [Текст]/М.С. Козлова. -М.: ИФРАН, 1996. -С. 5-24.
- Кравченко А.В. Является ли язык репрезентативной системой? [Текст]/А.В. Кравченко. -М.: Гнозис, 2006. -С. 135-156.
- Кронгауз, М.А. Семантика [Текст]: учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений/М.А. Кронгауз. -М.: Издательский центр «Академия», 2005. -352 с.
- Кубрякова, Е.С. Что может дать современная лингвистика исследованию сознания и разума человека [Текст]/Е.С. Кубрякова. -Тамбов: Изд-во ТГУ, 2006. -С. 26-31.
- Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира [Текст]/Е.С. Кубрякова. -М.: Прогресс, 2004.
- Миллер, Дж. Образы и модели, уподобления и метафоры [Текст]/Дж. Миллер. -М.: Прогресс, 1990. -С. 236-283.
- Сокулер, З.А. Проблема обоснования знания [Текст]/З.А. Сокулер. -М.: Наука, 1988. -176 с.
- Суханов, К.Н. Логика [Текст]/К.Н. Суханов. -Челябинск, 2004. -171 с.
- Чудинов, А.П. Россия в метафорическом зеркале [Текст]/А.П. Чудинов. -Екатеринбург, 2003. -238 с.