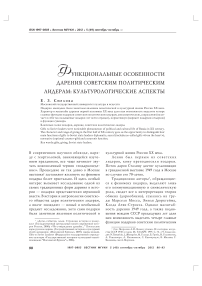Функциональные особенности дарения советским политическим лидерам: культурологические аспекты
Автор: Смелова Евгения Забилевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (49), 2012 года.
Бесплатный доступ
Подарки «вождям» были заметным явлением политической и культурной жизни России XX века. Характер и масштабы дарения первой половины XX века дали нам возможность выделить четыре главные функции подарков советским политическим лидерам: дипломатическую, сакральную (включает в себя так называемые подарки «от всего сердца»), нормативную (вариант подарков-отдарков) и функция сувенира.
Подарки, дарение, советские политические лидеры
Короткий адрес: https://sciup.org/14489323
IDR: 14489323
Текст научной статьи Функциональные особенности дарения советским политическим лидерам: культурологические аспекты
В современном научном обиходе, наряду с геортологией, занимающейся изучением праздников, все чаще начинает звучать новоявленный термин «подарковеде-ние». Прошедшие не так давно в Москве выставки1 заставляют взглянуть на феномен подарка более пристально. И здесь особый интерес вызывает исследование одной из самых традиционных форм дарения в истории — подарки представителям верховной власти. В истории и антропологии советского общества дары политическим лидерам, а иначе «вождям» — новый и необычный предмет исследования, хотя сами подарки были заметным явлением политической и культурной жизни России XX века.
Ленин был первым из советских лидеров, кому преподносили подарки. Поток даров Сталину достиг кульминации в грандиозной выставке 1949 года в Москве по случаю его 70-летия.
Традиционно авторы2, обращающиеся к феномену подарка, выделяют лишь его коммуникационную и символическую роли, сводят все к интерпретации теории обмена (дарообмена), ссылаясь на труды Марселя Мосса, Эмиля Дюркгейма, Клода Леви-Стросса. Однако масштабность дарения 1949 года, а также подношения вождям СССР предыдущих лет дали нам возможность выделить четыре главные функции подарков советским политическим лидерам, а именно:
-
• дипломатическая функция;
-
• сакральная функция (включает в себя так называемые подарки «от всего сердца»);
-
• нормативная функция (мы понимаем под ней подарки-отдарки);
-
• функция сувенира.
Начать следует с самого исторически оправданного случая дарения верховным правителям всех времен и народов — дипломатических подарков.
Как известно, на дипломатическую арену Московское государство выходит еще во второй половине XVI века (1).
Этикет обмена межгосударственными подарками сохранился и в советское время, но имел свой уникальный опыт. Например, одним из центральных экспонатов Выставки подарков Сталину3, по воспоминаниям посетителей, был головной убор индейского вождя, подаренный Сталину в 1942 году по случаю его избрания «почетным вождем всех индейских племен» (3, с. 13). Этот необычный подарок из орлиных и страусиных перьев представители 27 индейских племен Северной Америки вручили председателю Общества помощи Советскому Союзу в дни Отечественной войны для передачи лично И.В. Сталину. Как дипломатический дар можно рассматривать и преподнесенную Владимиру Ильичу Ленину трость с наконечником из слоновой кости от индийского представительства (7, с. 90).
Необходимо отметить, что в дипломатическую функцию входило не только формальное соблюдение этикета. Так, например, особый политический символизм нес в себе рисунок Жана Демаре «Встреча Петра I и Людовика XV в Париже 11 мая 1717 года (Прием в честь царя Московии)». Рисунок служил наброском к гравюре, выпущенной в качестве альманаха (то есть сопровожденной обильным тексто м) за 1718 год. В декабре 1944 года его 3 Выставка подарков И.В. Сталину от народов СССР и зарубежных стран, с 1949 по 1953 годы проходившая в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина.
преподнес Сталину Шарль де Голль, прекрасно понимавший лестный и льстивых характер порождаемых аллюзий.
Совершенно иную функцию, сакральную, носят другие подарки — от народа, порой куда более простые по исполнению, приземленные, но, что называется, «от всего сердца», как, например, портсигар, выполненный из пластмассы, снятой советским бойцом Игорем Никольским со сбитого германского самолета во время Великой Отечественной войны, или последняя записка, написанная рукой дочери рядовой француженки мадам Ростэн, найденная на железнодорожных путях, по которым ее увозили в Освенцим (8, с. 309) (здесь подарок матери, потерявшей единственную дочь в жерновах беспощадной войны, приобретает сакральный смысл — она дарит вождю-освободителю самое дорогое, что у нее есть, клочок бумаги с последними словами дочери, имеющую весомое значение лишь лично для мадам Ростэн).
Еще М. Мосс отмечал, что дарооб-мен является феноменом и социальноморфологическим, и «религиозным, мифологическим и шаманистским, поскольку вожди, участвующие в нем и представляющие его, олицетворяют в нем предков и богов…» (6, с. 145). Приведенная цитата относится к традиционным обществам, но выводы знаменитого антрополога применимы и к социумам с тоталитарным режимом с ярко выраженным культом вождя.
Сакрализация советских лидеров проявлялась в том, что каждый дарил то, что казалось особенно ценным. Колхозники-орочи Приморской области прислали «товарищу Сталину» украшенные вышивкой меховые унты, носки, туфли и перчатки, а учащиеся московского ремесленного училища № 38 поднесли Сталину набор слесарных инструментов (5, с. 15). Следует отметить, что подобные подарки с «огромной любовью» делались исключительно «для товарища Сталина, для самого любимого человека» (5, с. 20).
Если подарки «от всего сердца» не искали личной выгоды и похвалы, то были и те, кто старался добиться благосклонности посредством преподнесенных даров. Такой дар был связан с верой в вознаграждение. На прошедшей в 2006 году выставке «Дары вождям» много внимания было уделено подарку, носившему именно такой характер. В начале 1930-х годов в ИМЭЛ (Институт Маркса — Энгельса — Ленина) поступил дар от парикмахера с московской Остоженки Григория Борухова — портрет Ленина, изготовленный из человеческих волос. Сохранились и письма дарителя народному комиссару по военным и морским делам К.Е. Ворошилову. В них он ищет поддержки своего «совершенно своеобразного» творчества — изготовления картин-гобеленов из человеческих волос: «Я горжусь тем, что в моем лице именно советский трудящийся, гражданин СССР впервые положил основание этому редкому виду искусства» (3, с. 11).
Этот подарок вписывается в давнюю традицию подношений правителям образцов технических и художественных инноваций с целью получить высокое покровительство. Борухов подчеркивает, что Ворошилов лично «видел и оценил его искусство» и «изъявил желание помочь»: «Помня Ваш совет … вот уже два месяца как я оставил парикмахерскую и приступил к работе над новыми картинами. В частности, мне хочется изготовить большое панно для будущего Дворца Советов, полагаю, там такое будет уместно. Сюжет мне напрашивается — первый удар по Деникину». И здесь письмо-рассказ превращается в прошение: «Однако оказалось, что выполнить волю вождя без общественной поддержки мне не под силу… Я остался без продовольственной карточки, не прикреплен к распределителю и нахожусь в тяжелых жилищных условиях (темный сырой подвал)» (3, с. 10).
Парикмахер заявляет, что его творчество соответствует духу социализма: «Я не гонюсь за славой и деньгами, а хочу, чтобы это высокое искусство … дано было миру трудящихся страны, строящей социализм». Но для этого лично ему — дарителю — необходимы в качестве платы, или отдарка, «небольшая квартира для семьи и отдельная изолированная комната для художественной работы. Желательно было бы при первом Доме Советов, где я организовал образцовую европейскую парикмахерскую, о чем знает т. А.С. Енукидзе. Для производственной работы и материального обеспечения устроить меня парикмахером или зав. парикмахерской в Кремле либо в доме отдыха Совнаркома» (3, с. 10).
Вся эта система отношений, которая разворачивалась вокруг портрета Ленина из человеческих волос, выполняла нормативную функцию подарка. Первый дар — это разрешение или благословение Ворошилова («воля вождя») на само творчество. Второй — это редкое искусство, которое художник хочет подарить «трудящимся страны». И, наконец, третий дар — это материальная поддержка дарителя «сверху». Тем самым мы доказываем утверждение М. Годелье, что «дар порождает долг, который не может быть ликвидирован, в отличие от товарообмена... Дар может быть уравновешен, “сбалансирован” эквивалентным ответным даром» (2, с. 73).
Четвертая функция, которую мы бы хотели выявить относительно дарения, а именно сувенирная, наиболее ярко проявит себя во второй половине XX века, во время правления Н.С. Хрущева, который много ездил по стране и миру. Фотоальбомы, посылаемые вслед вождю после его визитов в «наш город», или на «наше предприятие», или в колхоз, стали популярной формой подарка «на память». Тысячи фотографий демонстрируют вождю местную жизнь в панорамной перспективе. Высокого гостя ждали и, как правило, готовили подарки. Вождь мысленно превращается в посетителя краеведческого музея, обозревающего местную флору и фауну, залежи минералов, народные традиции, историю революционного движения или достопримечательности.
Так, например, И.В. Сталину была прислана копия тосканской вазы I века до н.э. от коммунистической секции Джерарди города Ареццо (2, с. 269) или, как еще один пример этнического характера, свадебный головной убор от трансильванских венгров.
Эта способность вещи-подарка представить вождю «свою» часть света, профессиональную или иную идентичность дарителя и определяет во многом ценность дара. Сейчас появляются исследования, отводя- щие сувениру особое внимание. Так, в своей диссертации Н.В. Ерискина (4), проанализировав концепцию дарения в традиционном обществе коренных народов Камчатки, выделила сувениры «личные», «общезначимые» и «этнические».
Подарок (и сам процесс дарения) как отдельный феномен истории культуры заслуживает дальнейшего детального изучения. В данном случае наша статья ограничилась лишь рамками выявления характерных функций подарков политическим лидерам советского государства.