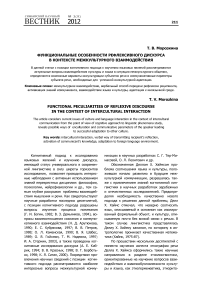Функциональные особенности рефлексивного дискурса в контексте межкультурного взаимодействия
Автор: Морозкина Татьяна Владимировна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной статье с позиции когнитивного подхода к изучению языковых явлений рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия культуры и языка в ситуации межкультурного общения, определяются возможные варианты инкультурации субъектов речи и коммуникативные параметры субъекта речи, необходимые для успешной инокультурной адаптации.
Межкультурное взаимодействие, вербальный способ передачи рефлексии реципиента, активизация знаний коммуниканта, взаимодействие языка и культуры, адаптация к иноязычной среде
Короткий адрес: https://sciup.org/14113701
IDR: 14113701
Текст научной статьи Функциональные особенности рефлексивного дискурса в контексте межкультурного взаимодействия
Когнитивный подход к исследованию языковых явлений и изучению дискурса, имеющий статус универсального в современной лингвистике в силу широты горизонтов исследования, позволяет проводить интересные наблюдения с активным использованием знаний перекрестных дисциплин: философии, психологии, нейрофизиологии и др., тем самым глубже раскрывая проблемы взаимодействия мышления и речи. Как свидетельствуют научные разработки последних десятилетий, с позиции когнитивного подхода разрешены вопросы изучения процесса понимания (Г. И. Богин, 1982; В. З. Демьянков, 1994), вопросы взаимоотношения сознания и коммуникативного взаимодействия (Н. Д. Арутюнова, 1990; Е. С. Кубрякова, 1997; В. В. Петров, 1988; О. Л. Каменская, 1990; В. Я. Шабес, 1989; О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина, 1997; И. А. Стернин, 2003), а также проведены когнитивные исследования дискурса (А. Е. Кибрик, 1994; В. В. Красных, 1998; В. Г. Борботь-ко, 1998; К. Я. Сигал, 2000). Посредством привлечения научных сведений с позиции когнитивного подхода рассматриваются наиболее интересные вопросы межкультурной комму- никации в научных разработках С. Г. Тер-Минасовой, О. Л. Леонтович и др.
Обозначенная Деллом Х. Хаймсом проблема соотношения языка и культуры, положившая начало развитию в будущем межкультурной коммуникации, разрешалась также с привлечением знаний когнитивной лингвистики в научных разработках зарубежных и отечественных исследователей. Предопределяя необходимость качественно нового подхода к решению данной проблемы, Делл Х. Хаймс отмечал, что неверно соотносить язык, описываемый в основном как изолированный формальный объект, и культуру, описываемую почти без всякой связи с речью. В таком случае лингвистика представлялась Деллу Х. Хаймсу каналом, по которому в антропологию проникает качественная математика (Хаймс, 1975:87).
По прошествии нескольких десятилетий с момента изучения аспекта этнографии речи Делла Х. Хаймса оформились такие научные направления в разделе этнолингвистики, ориентированные на изучение вопросов взаимодействия и взаимообусловленности культуры и языка, как этногерменевтика, этнорито- рика, лингвострановедение. В отечественной лингвистике многие исследователи рассматривают актуальные вопросы межкультурной коммуникации и коммуникативного взаимодействия сквозь призму когнитивных исследований. Примером вышесказанного может послужить изучение механизмов межкультурной коммуникации и способов кодирования информации в исследовании О. А. Леонтович (Леонтович, 2007). С другой стороны, согласно научным представлениям К. А. Филиппова, изучение когнитивных аспектов текста в начале нового тысячелетия позволяет перейти от констатации о роли факта общего фонда знаний в общении людей к систематическому описанию различных когнитивных систем индивида, обеспечивающих правильную коммуникацию (Филиппов, 2007:293).
При объяснении многих языковых явлений в дискурсивной практике А. Е. Кибрик указывал на то, что функциональный подход к языку недостаточен, так как его рамки ограничивают глубинное исследование природы человеческого сознания, неизбежен выход в «экстралингвистические» сферы и поиск когнитивных, культурных, социальных объяснений. При этом необходимо учесть, что культурные и социальные факторы влияют на дискурс через посредство когнитивной системы говорящего (Кибрик, 1994:128).
В настоящее время развитие международных контактов в условиях интеграции современного общества является причиной повышенного интереса к актуальным вопросам межкультурного взаимодействия, а именно: осознание собственного коммуникативного «Я» в координатах измерения иноязычной сферы; интерпретация как способ вербальной передачи рефлексии в процессе ассимиляции к иноязычной культуре; активизация знаний и речевого опыта в ситуации межкультурного взаимодействия, факторы успешной адаптации в иноязычной среде. Нет сомнения в том, что обозначенный круг вопросов напрямую связан с когнитивными исследованиями, поскольку в фокус исследования помещена коммуникативная фигура субъекта речи как носителя когниции. По справедливому замечанию Л. И. Гришаевой и Л. В. Цуриковой, процесс аккультурации когнитивно загружает человека, активизируя все механизмы обработки сведений о мире; при этом прежде всего максимально задействованными оказыва- ются мыслительные операции по анализу и сопоставлению поступающей извне информации (Гришаева, Цурикова, 2005:365).
Как показывают наши наблюдения, оказываясь в иноязычной среде, коммуникант в ситуации межкультурного взаимодействия опирается на следующие виды знаний, составляющих когнитивную базу:
-
— языковые (знание фонетических норм, лексического запаса, грамматического строя языка и синтаксического оформления);
-
— фоновые (знания об условиях ситуации речевого общения, о речевом партнере, о вероятностном ходе ситуации коммуникативного взаимодействия);
-
— ассоциативные (в данном случае знания-помощники, накопленные знания, прошлые сведения в форме клеше, закрепленные в памяти субъекта речи и активизирующиеся в данной коммуникативной ситуации);
-
— процедуральные (знания-генераторы, или знания оперирования знаниями: когнитивные процедуры восприятия речи и обработки информации, формирование умозаключений, интерпретации своего понимания или непонимания).
Активизируя вышеперечисленные блоки знаний, образующих фрейм ситуации межкультурного взаимодействия, субъект речи адаптируется к лингвокультурологическим условиям. По мере дальнейшего наблюдения, построенного на основе метода логической интерпретации и когнитивно-дискурсивного анализа письменных сообщений коммуникантов в форме внутреннего диалога, монолога о собственных межкультурных контактах, удалось определить типы инкультурации, а также выявить причины успешной и неуспешной ассимиляции коммуниканта в иноязычной среде. Следует отметить, что в данном случае наблюдение основывается на речевом материале коммуникантов, профессионально владеющих иностранным языком и знающих культурные обычаи и традиции стран изучаемого языка.
Адаптация в иноязычной среде — достаточно сложный психологический процесс, отражающий внутренние переживания субъекта речи в форме внутреннего диалога или монолога. Выраженные во внутренней коммуникации переживания представляют собой информативный материал для изучения данной проблематики, поскольку передают рефлексию субъекта речи в «чистом» виде.
Обратимся к конкретным речевым высказываниям участников межкультурного взаимодействия с целью наблюдения процесса инкультурации. Прежде всего, необходимо отметить, что внедрение в среду иноязычной культуры отражается на психоэмоциональном фоне коммуниканта. Это событие по своей сути способствует возникновению стрессовой ситуации, что автоматически запускает механизм рефлексии и выводит реципиента в режим автокоммуникации. Проиллюстрируем данное положение следующим фрагментом рефлексивного дискурса:
“ Ich musste feststellen , dass ich diesen Schritt nicht erfolgreich bewältigt hatte. Ich erntete wütende Blicke, gar Flüche. Ich habe nicht durchschaut , was ich falsch machte. Ich kann nur vermuten, dass ich das Mass über-schritt… Nach dem aufmerksamen Beobach-ten, Mitmachen und Reflektieren gilt es ab-zuwägen, was ich beibehalten und was ich ablegen will…” (J. Siebert).
В анализируемом фрагменте открывается внутренняя коммуникация субъекта речи, по мере развития которой «Я» рефлектирующее интерпретирует коммуникативные действия «Я» реального.
В ходе исследования и наблюдения сюжетов межкультурных контактов субъекта речи были определены следующие типы инкультурации в ситуации межкультурного взаимодействия:
-
1) Успешная инкультурация вследствие состоявшейся адаптации
“Fragte man mich in Deutschland oder Kanada: bist du Deutscher oder Kanadier?, so ant-wortete ich: Deutschkanadier. Meine Identität hatte sich also durch die Interaktion in meinem neuen Wirkungsfeld insofern geändert , als ich die Welt nicht mehr mit bin-nendeutschen, sondern mit auslandsdeutschen Augen ansah” (H. Fröschle).
В данном случае мы констатируем завершенную рефлексию реципиента, отражающую на завершающем этапе состоявшуюся инкультурацию: “Allmählich wurde das alltägliche Leben, vor allem dank der Beiträge ideenfreudiger, initiativreicher Europäier, leichter und vertrauter: die Ess-und Trink-sitten verbesserten sich, das Kulturleben wurde reicher …” (H. Fröschle).
Как показывают результаты проведенного наблюдения, успешная инкультурация наиболее вероятна при условии, что субъект речи обладает следующими когнитивнокоммуникативными параметрами:
— межкультурная компетенция;
— развитый речевой опыт;
— коммуникативная гибкость;
— межкультурная толерантность;
— когнитивная мобильность;
-
2) Инкультурация, основанная на контрасте «свое» — «чужое»
“Manche herkömmlichen Klischees über Deutschland kann ich aus der fremden Per-spektive beipflichten . Dann ist Deutschland für mich schnell (die Strassenbahn “fliegt”), geordnet (es existieren Fahrpläne, die eingehal-ten werden), geregelt… So ist mir, denk ich an Deutschland” (K. Rothammel).
“In meinem russischen Alltag entdecke ich mein eigenes Deutsch-Sein ” (J. Siebert).
Рефлексивные маркеры, выраженные в форме ментальных предикатов (denken, entdecken, beipflichten) , являются достоверным доказательством того, что процесс инкультурации протекает при сложном лингвокультурологическом сопоставлении «своего» — «чужого». Можно предположить, что этот межкультурный контраст обусловлен так называемым этнолингвистическим столкновением блока фоновых и языковых знаний собственной лингвокультурологической системы и иноязычной.
Положительным моментом рассматриваемого межкультурного рассогласования можно считать более глубокое осознание собственной идентичности “ …entdecke ich mein eigenes Deutsch-Sein ”. По справедливому замечанию академика Д. С. Лихачева, «каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека «своей культурой», своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого» (Лихачев, 1989:231);
-
3) Несостоявшаяся инкультурация
“Doch nach zwei Monaten fühlte ich mich plötzlich fremd. Ich merkte : Ich war anders als alle anderen und würde es nie schaffen. Es war wie eine Schwelle, über die ich in einen anderen Raum getreten war, von dem aus alles anders aussah… Jedenfalls spürte ich jetzt die Über-forderung durch all das Neue und erkannte, wie wenig ich von dem verstand , was um mich herum geschah und gesprochen wurde.
Irgendwann wurde mir bewusst : Ich hatte Heimweh” (Супрун, 2008:232).
Подобный тип инкультурации, как правило, не способствует рефлексивому сбросу, т. е. выходу из рефлексивного состояния. В данном случае нереализованная рефлексия переходит в посткоммуникативную рефлексию и завершается логическим выводом «Я» рефлексивного: “Irgendwann wurde mir bewusst : Ich hatte Heimweh”.
Согласно нашим наблюдениям, крайней формой несостоявшейся инкультурации является так называемый культурный шок, определенный американским антропологом Карлом Обергом. Культурный шок возникает вследствие болезненного процесса адаптации к новой культурной и языковой среде. Согласно исследованиям профессиональной межкультурной коммуникации Н. В. Барышникова, главной причиной культурного шока является различие культур. В трактовке Н. В. Барышникова, находясь в условиях новой культуры, привычная система ориентации оказывается неадекватной, поскольку она основывается совсем на других представлениях о мире, иных формах и ценностях, стереотипах поведения и восприятия. В процессе рефлектирования мы осознаем наличие скрытой системы, контролирующей наше поведение, норму и ценности лишь тогда, когда попадаем в иную культуру, основным средством познания которой является интерпретация увиденного, услышанного (Барышников, 2010:127).
Вновь обратимся к речевому материалу и приведем примеры, которые в полной мере отражают состояние культурного шока реципиента:
“Obwohl ich passabel Englisch und Fran-zösisch sprach und vage Vorstellungen von der kanadischer Geographie und Geschichte hatte, erlebte ich meine erste Zeit in Kanada als Kulturschock ” (H. Fröschle).
“Es hat lange gedauert, bis ich erfuhr, dass es ein Kulturschock war” (Супрун, 2008:231).
В рассматриваемых рефлективных актах в обоих случаях в сознании рефлектирующих субъектов прокручивается сценарий межкультурного взаимодействия в прошлом, но оно актуально для коммуниканта в настоящем, поскольку отражает неудачный опыт и, как следствие — прогрессирующую рефлексию. Согласно теории внутреннего диалога М. М. Бахтина, в подобной ситуации речевой партнер может подразумеваться, способствовать дальнейшему развитию рефлексии (Бахтин, 1986:477). Рефлектирующий субъект как бы апеллирует к сознанию воображаемого собеседника. К вербализации рефлексии во внутренней коммуникации без выражения во внешней коммуникации субъект речи прибегает для того, чтобы выговориться, пережить заново события, сделать определенные выводы.
Результаты проведенных наблюдений позволяют сделать выводы о том, что именно в рефлективных актах в режиме автокоммуникации между Я и суб-Я субъект речи «переживает» процесс адаптации к новой лингвокультурологической среде. При этом он осознает свою идентичность, выявляет языковые и культурные различия, выбирает определенную речевую стратегию с целью успешного межкультурного взаимодействия. В этом заключается межкультурный аспект рефлексивного дискурса.
-
1. Барышников, Н. В. Профессиональная межкультурная коммуникация : моногр. / Н. В. Барышников. Пятигорск : ПГЛУ, 2010. 264 с.
-
2. Бахтин, М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. М. : Худож. лит., 1986. 531 с.
-
3. Гришаева, Л. И. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2005. 391 с.
-
4. Кибрик, А. Е. Когнитивные исследования по дискурсу / А. Е. Кибрик // Вопр. языкознания. 1994. № 5. С. 126—139.
-
5. Леонтович, О. А. Введение в межкультурную коммуникацию : учеб. пособие / О. А. Леонтович. М. : Гнозис, 2007. 368 с.
-
6. Супрун, Н. И. Немецкий язык : пособие по межкультурной коммуникации / Н. И. Супрун, В. Шмальтц. М. : Высш. шк., 2008. 253 с.
-
7. Филиппов, К. А. Лингвистика текста : курс лекций / К. А. Филиппов. 2-е изд. СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. 331 с.
-
8. Хаймс, Х. Делл. Этнография речи / Х. Хаймс Делл // Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М. : Изд-во «Прогресс», 1975.
Список литературы Функциональные особенности рефлексивного дискурса в контексте межкультурного взаимодействия
- Барышников Н. В. Профессиональная межкультурная коммуникация: моногр./Н. В. Барышников. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. 264 с.
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи/М. М. Бахтин. М.: Худож. лит., 1986. 531 с.
- Гришаева Л. И. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации/Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2005. 391 с.
- Кибрик А. Е. Когнитивные исследования по дискурсу/А. Е. Кибрик//Вопр. языкознания. 1994. № 5. С. 126-139.
- Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб. пособие/О. А. Леонтович. М.: Гнозис, 2007. 368 с.
- Супрун Н. И. Немецкий язык: пособие по межкультурной коммуникации/Н. И. Супрун, B. Шмальтц. М.: Высш. шк., 2008. 253 с.
- Филиппов К. А. Лингвистика текста: курс лекций/К. А. Филиппов. 2-е изд. СПб.: Изд-во C.-Петербургского ун-та, 2007. 331 с.
- Хаймс Х. Делл. Этнография речи/Х. Хаймс Делл//Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М.: Изд-во «Прогресс», 1975.