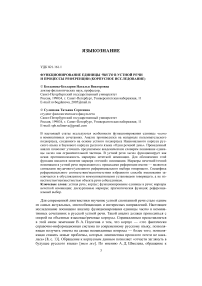Функционирование единицы чисто в устной речи и процессы референции (корпусное исследование)
Автор: Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, Сулимова Татьяна Сергеевна
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье исследуются особенности функционирования единицы чисто в номинативных сочетаниях. Анализ производился на материале пользовательского подкорпуса, созданного на основе устного подкорпуса Национального корпуса русского языка и Звукового корпуса русского языка «Один речевой день». Проведенный анализ позволяет уточнить предлагаемое академическим словарем понимание единицы чисто как ограничительной частицы. В устной речи чисто функционирует как некая противоположность маркерам нечеткой номинации. Для обозначения этой функции вводится понятие маркера «точной» номинации. Маркеры нечеткой/точной номинации в устной речи пересекаются с процессами референции имени - являются сигналами неудачного/успешного референциального выбора говорящего. Специфика референциального соответствия/несоответствия избранного способа именования заключается в обусловленности коммуникативными установками говорящего, а не известностью/неизвестностью объекта речи собеседникам.
Устная речь, корпус, функционирование единицы в речи, маркеры нечеткой номинации, дискурсивные маркеры, прагматическая функция, референциальный выбор
Короткий адрес: https://sciup.org/148317684
IDR: 148317684 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Функционирование единицы чисто в устной речи и процессы референции (корпусное исследование)
Для современной лингвистики изучение устной спонтанной речи стало одним из самых актуальных, многообещающих и интересных направлений. Настоящее исследование посвящено анализу функционирования единицы чисто в номинативных сочетаниях в русской устной речи. Такой анализ должен проводиться с опорой на объемные языковые/речевые корпусы. Справедливым представляется в этой связи замечание В. А. Плунгяна о том, что корпус — «это фактически справочно-информационная система по современному русскому языку, позволяющая получать ответы на самые неожиданные вопросы — более того, позволяющая ставить новые проблемы, которых лингвистика прошлого почти не касалась» [8, с. 13]. Обращение к корпусным данным позволяет «отчасти заглянуть в будущее русского языка» [там же]. По мнению А. Д. Шмелева, обращение к представительной выборке материала, что по факту является корпусом текстов, подразумевает каждое (курсив мой. — Т. С.) проводимое лингвистом исследование [13, с. 236–237].
Источником материала для настоящего исследования послужили два устных корпуса:
-
• устный подкорпус (УП) Национального корпуса русского языка;
-
• корпус повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД).
Как известно, Национальный корпус (НКРЯ) [] является наиболее представительным для русского языка, его материал полезен для разных лингвистических исследований, в том числе с учетом создания подкорпуса устных текстов для изучения разговорной речи.
Другой источник материала для настоящего исследования — созданный на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета корпус повседневной русской речи «Один речевой день» — позволяет «осуществлять своеобразный масштабный мониторинг современной русской устной речи, живого языка нашего повседневного общения, во всем его разнообразии, во всех его формах и проявлениях» [2, с. 8; 14; 11].
Таким образом, конкретным материалом для анализа стал созданный на основе устного подкорпуса НКРЯ и корпуса ОРД пользовательский подкорпус, включающий 110 употреблений слова чисто в номинативных сочетаниях. Всего пользовательский подкорпус насчитывает 373 употреблений этой единицы в разных сочетаниях.
На первом этапе исследования были собраны и проанализированы зафиксированные словарями значения слова чисто . Академические словари русского языка (см., например: [12, с . 544]) фиксируют пять значений (лексико-семантических вариантов — ЛСВ) слова чисто :
-
1) наречие к чистый ;
-
2) безличное сказуемое;
-
3) ( устар. и простореч. ) ‘совсем, совершенно’;
-
4) ( устар. и простореч. ) ‘только, исключительно’;
-
5) сравнительный союз ‘как будто, словно’.
ЛСВ (1) и (2) не выявили никаких дополнительных нюансов употребления на материале устных корпусов, тогда как ЛСВ (4), по данным корпусного исследования, представляется наиболее интересным.
С точки зрения традиционной грамматики, чисто — это стилистически сниженный синоним ограничительной частицы только . Однако обращение к контекстам устной речи дает повод по-другому взглянуть на эту единицу, ср.:
-
1) вот / поэтому ... чисто для вас / наверно ... это было хорошо / для нас / было скучновато // @ да (ОРД);
-
2) В общем работала чисто в колхозе / Зарабатывала трудодни себе (УП, Рассказ женщины о своих родных // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2011);
-
3) Потому что за вторым образованием идут реально чисто для жизни дальше (УП, Разговор студентов о домашних животных // Из коллекции НКРЯ, 2009).
В приведенных примерах у слова чисто «стирается» ограничительная функция, она заменяется на нечто близкое, но все-таки иное. Представляется, что про- стая замена чисто на только привела бы к семантическому сдвигу. Рассмотрим на примере (2): только в колхозе означало бы, что ‘говорящая работала только в колхозе, а больше нигде не работала’; но очевидно, что смысл высказывания сводится к другому — ‘работала именно там, в колхозе’. Иными словами, единица чисто в номинативных сочетаниях маркирует «важное» — коммуникативно-значимое — место в высказывании, в чем и заключается ее прагматическая функция (сигнал для адресата).
Для обозначения этой функции единицы чисто вводим понятие маркера «точной» номинации (МТН). Под МТН в настоящем исследовании понимается такая функция единицы чисто , когда она становится показателем максимально полного, адекватного, точного референциального соответствия избранного способа именования, обусловленного коммуникативной установкой говорящего сообщить нечто «важное» для него и/или собеседника, ср.:
-
4) это я думаю / что вы *В обратитесь и вот оцените этот подарок /
-
*В там () чисто(:) вот для мужчин полезно конечно (ОРД);
-
5) чтобы они чисто на заднем фоне были / да / непосредственно там / где сцена (ОРД);
-
6) Он кончает фэнтэзи писать и на чисто фантастику переходит. (УП, О книгах // Из материалов Ульяновского университета, 2006);
-
7) И / в сущности/ в тыща пиисят четвёртом году они разделились на две ветви―западная/ католическая/ такая чисто вера католическая (УП, Н. Басовская. Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы. Проект Academia (ГТРК Культура), 2010);
-
8) их можно чисто по физике процессы рассчитать — его концентрацию во внутренней мембране митохондрий 9УП, В. Скулачев. Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный от тирании генома. Проект Academia (ГТРК Культура) (2010));
-
9) Это мой дом /я так понимаю. Просто чисто квартира /конечно... (УП, Беседа с социологом на общественно-политические темы (Самара) // Фонд «Общественное мнение», 2003).
Количественный анализ корпусного материала позволяет говорить о популярности именно этой функции единицы чисто в номинативных сочетаниях в русской устной речи (79 %).
Как представляется, единица чисто в роли МТН функционирует как некая противоположность тому, что В. И. Подлесская называет маркерам нечеткой номинации (МНН). МНН — это «средства, которые позволяют информировать слушающего о том, что говорящий снимает с себя ответственность за точность вербализации и предоставляет слушающему возможность посильного сотрудничества в реконструкции исходного смысла» [9, с. 632]. Нечеткая номинация может быть спровоцирована разными коммуникативными установками говорящего: временнЫм дефицитом, отсутствием подходящего слова или его неуместностью в данной ситуации. В. И. Подлесская исследует и просодические, и синтаксические средства нечеткой номинации, но в первую очередь — лексические. Исследователь выделяет две группы МНН: маркеры-заместители и маркеры-аппроксиматоры — в соответствии с двумя возможными стратегиями их инте- грации в дискурс: стратегия замещения и стратегия совмещения [10]. Приведем пример автора:
-
• там /\ну у нас были-и ээ •• что-то типа вводных /\тренингов по поводу работы.
Строго говоря, единица чисто противопоставлена маркерам-аппроксиматорам, так как интегрируется в речь только в результате использования стратегии совмещения.
Маркеры-аппроксиматоры сигнализируют о неполном референциальном соответствии избранного способа именования, тогда как чисто в функции МТН — о максимально точном соответствии.
Таким образом, МТН и МНН содержат имплицитную оценку говорящим своего референциального выбора (по принципу успех/сбой): либо он отождествляет объект, либо затрудняется в этом (в силу тех или иных коммуникативных установок) (о зависимости референциального выбора от дискурсивных факторов см. [ Кибрик и др. 2010]).
При этом референт (этот самый объект) невозможно идентифицировать или он идентифицируется предельно точно, однако не в силу его неизвестности или известности, что было бы характерно для неопределенной или определенной референции, а в силу таковых коммуникативных установок говорящего. Заметим, что при маркерах-заместителях говорящий как бы «бросает» эту референцию — остается один лишь «след» былой попытки.
На коммуникативном уровне МТН и МНН осуществляют прагматическую функцию — позволяют «информировать» слушающего: успешен ли совершенный референциальный выбор или нет.
Заметим, что подобная перспектива в известной нам научной литературе, посвященной проблемам референции, отсутствует. Как известно, референция — это соотнесение языковых выражений с действительностью, механизмы, позволяющие связывать речевые сообщения и их компоненты с неязыковыми объектами, ситуациями, событиями, фактами, положениями вещей в реальном мире [9, с. 7]. Традиционно, в связи с прагматическими факторами принято различать три вида референции: интродуктивную (объект речи известен только говорящему), идентифицирующую (и говорящему, и адресату) и неопределенную (объект неизвестен собеседникам) [1, с. 411]. В таком случае возникает вопрос о статусе обнаруженного явления: можно ли референцию, обусловленную коммуникативными установками говорящего, воспринимать как полноценный самостоятельный вид референции имени? Специфика референции говорящего заключается в перспективном сдвиге (оценка говорящим своих способностей, а не чужих ) и связи с коммуникативной ситуацией. Если так, то в связи с обнаруженным явлением, как представляется, можно расширить область прагматики референции.
Изучению связи дискурсивных маркеров (ДМ) с процессами референции посвящено исследование Е. Г. Борисовой «Дискурсивные слова и референция в процессе понимания» [4]. Главный вывод автора заключается в том, что дискурсивные слова (вот, вон, именно, как раз, один) могут и участвуют в установлении референциального статуса имени. Это связано «не с выработкой особых значений или назначений дискурсивных слов, а с речевыми процессами, в которых аспекты, использующие маркировку частицами: известность, актуализованность, ожидаемость и т. п., — тесно переплетаются с процессами установления референции» [там же, с. 113]. Иными словами, по мнению Е. Г. Борисовой, дискурсивные слова выступают в качестве дополнительного, второстепенного средства референции, в силу пересечения их смыслов: ДМ маркируют различные процессы понимания, а референция — обеспечивает это понимание.
Нечто подобное, как представляется, происходит и при использовании маркеров точной / нечеткой номинации.
Таким образом, анализ корпусного материала повседневной устной речи показал, что единица чисто в номинативных сочетаниях в роли маркера точной номинации становится вспомогательным средством референции имени.
Список литературы Функционирование единицы чисто в устной речи и процессы референции (корпусное исследование)
- Арутюнова Н. Д. Референция // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 411-412.
- Звуковой корпус русского языка: новая методология анализа устной речи / Н. В. Богданова-Бегларян [и др.] // Язык и метод: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Вып. 2. Krak6w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2015. С. 357-372.
- Богданова-Бегларян Н. В. Корпус «Один речевой день» в исследованиях социолингвистической вариативности русской разговорной речи / Н. В. Богданова-Бегларян, О. В. Блинова, Г. Я. Мартыненко, Т. Ю. Шерстинова // Анализ разговорной русской речи: Труды седьмого междисциплинарного семинара. СПб.: Политехника-принт, 2017. С. 14-20.
- Борисова Е. Г. Дискурсивные слова и референция в процессе понимания сообщения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: материалы ежегодной междунар. конф. «Диалог» (Бекасово, 4-8 июня 2014 г.). Вып. 13 (20). М.: Изд-во РГГУ, 2014. С. 102-113.
- Звуковой корпус как материал для анализа русской речи: коллективная монография. Ч. 1. Чтение. Пересказ. Описание / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2013. 532 с.
- Референциальный выбор как многофакторный вероятностный процесс / А. А. Кибрик // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной междунар. конф. «Диалог» (Бекасово, 26-30 мая 2010 г.). Вып. 9 (16). М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 173-181.
- Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука, 1985. 270 с.
- Плунгян В. А. Зачем нужен Национальный корпус русского языка: Неформальное введение // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. М.: Индрик, 2005. С. 6-20.
- Подлесская В. И. Нечеткая номинация в русской разговорной речи: опыт корпусного исследования // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (2013) (Бекасово, 29 мая — 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): в 2 т. Т. 1. Основная программа конференции. М.: Изд-во РГГУ, 2013. С. 631-643.
- Подлесская В. И., Стародубцева А. В. О грамматике средств выражения нечеткой номинации в живой речи // Вопросы языкознания. 2013, № 3. С. 25-41.
- Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах. Коллективная монография / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: ЛАЙКА, 2016. 244 с.
- Словарь современного русского литературного языка в 17 т. Т. 17. Х-Я. М.; Л.: АН СССР, 1965. 1068 с.
- Шмелев А. Д. Языковые факты и корпусные данные // Русский язык в научном освещении. 2010, № 19 (1). С. 236-265.
- Asinovsky А. The ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication «One Speaker's Day»: Creation Principles and Annotation / А. Asinovsky [и др.]. Berlin-Heidelberg: Springer, 2009. Pp. 250-257.
- http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html