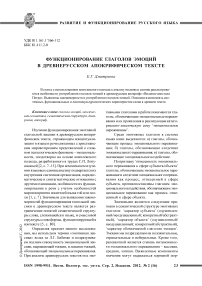Функционирование глаголов эмоций в древнерусском апокрифическом тексте
Автор: Дмитриева Евгения Геннадьевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье с использованием комплексного подхода к анализу языковых единиц рассматриваются особенности употребления глаголов эмоций в древнерусском апокрифе «Видение апостола Петра». Выявлены закономерности в употреблении глаголов эмоций. Показана взаимосвязь системных, функциональных и лингвокультурологических характеристик слова в древнем тексте.
Глаголы эмоций, лексическая семантика, семантическая структура, диахрония, апокриф
Короткий адрес: https://sciup.org/14969663
IDR: 14969663 | УДК: 811.161.1366-112
Текст научной статьи Функционирование глаголов эмоций в древнерусском апокрифическом тексте
Изучение функционирования эмотивной глагольной лексики в древнерусском апокрифическом тексте, отражающем концептуализацию в языке и речи связанных с христианским мировоззрением представлений о сложном психологическом феномене – эмоциональности, плодотворно на основе комплексного подхода, разработанного в трудах С.П. Лопу-шанской [2, с. 7–15]. При комплексном изучении языковых единиц анализу подвергается их внутренняя системная организация, парадигматические и синтагматические отношения с другими единицами, особенности их функционирования в речи с учетом особенностей мировосприятия носителей языка той или эпохи [1, с. 7]. Значимым для выявления закономерностей функционирования глагольной лексики в древнерусском тексте является разграничение понятий семантической структуры слова, сложившейся в языке, и смысловой структуры словоформы, функционирующей в контексте [5, с. 80].
Определяя предмет нашего исследования, мы используем термин «эмотивная лексика» вслед за Л.Г. Бабенко и подразумеваем под ним совокупность эмоциональной лексики, выражающей эмоции, и лексики эмоций, обозначающей эмоциональные переживания. При анализе древнерусских текстов под эмо- тивными глаголами в работе понимаются глаголы, обозначающие эмоциональные переживания и их проявления и реализующие категориально-лексическую сему ‘эмоциональное переживание’.
Среди эмотивных глаголов в системе языка нами выделяются: а) глаголы, обозначающие процесс эмоционального переживания; б) глаголы, обозначающие следствие эмоционального переживания; в) глаголы, обозначающие эмоциональное воздействие.
По признаку ‘отнесенность эмоционального переживания к сфере субъекта/объекта’ глаголы, обозначающие эмоциональное переживание и следствие эмоционального переживания как процесс, отнесенный к сфере субъекта, противопоставлены глаголам эмоционального воздействия, обозначающим эмоциональное переживание как процесс, отнесенный к сфере объекта.
Значимыми являются следующие признаки в семантической структуре эмотивных глаголов: ‘характер субъекта’ (одушевлен-ный/неодушевленный; конкретный/абстракт-ный), ‘характер объекта’ (одушевленный/ неодушевленный; конкретный/абстрактный), ‘характер обозначаемой глаголом эмоции’. Эмоции мы подразделяем на положительные, отрицательные и нейтральные. Кроме того, релевантной является степень интенсивности эмоционального переживания – высокая, средняя, низкая. Выявленные компоненты значения могут выражаться корневой мор-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ фемой, а могут актуализироваться средствами контекста [3, с. 14–15].
Объектом нашего исследования являются глаголы эмоций, функционирующие в тексте одного из малоизученных с лингвистической точки зрения памятников – апокрифе «Видение апостола Павла». Он датируется III в. н. э., авторство приписывается самому апостолу Павлу. Существует несколько редакций апокрифа: латинская, греческая, сирийская и русская. На Руси он был известен уже к XIV веку. По мнению Л.М. Хачатурян, русский текст весьма близок к греческой редакции. Основные различия наблюдаются в тех местах апокрифа, которые на Руси были использованы для составления поучений. В русских списках не рассказывается об истории нахождения апокрифа, в отличие от греческой редакции, где говорится, что некоему благочестивому человеку, жившему в Тарсе, явился ангел и открыл, что в фундаменте его дома лежит шкатулка с рукописью «Видения апостола Павла». Однако в греческой редакции не упоминается о жалобах Земли на беззакония людей. Как предполагают исследователи, в русской редакции тема жалоб природы на греховность людей могла развиться вполне самостоятельно, так как известно, какую большую роль играл культ природных сил в славяно-русском обществе периода двоеверия [9, с. 528].
По своей жанрово-тематической природе рассматриваемый текст относится к кругу неканонических произведений, посвященных описанию иного мира («Книга Еноха», «Видение Исайи»), герои которых оказываются свидетелями сокровенных тайн, открывающихся им по воле Бога. Апокрифы содержат красочные описания того, как избранники Божии чудесными способами попадают на небо – в рай или ад, – и того, что они там наблюдают. Как отмечает В.В. Мильков, апокрифы «визионерского» плана в яркой образной и впечатляющей форме изображали недоступную обыденному опыту реальность и являлись основным источником сведений об ином мире. В них конкретизировались христианские воззрения на посмертную судьбу людей, о которой в Писании сказано слишком общо. Несмотря на определенные взаимные противоречия, именно такие апокрифы форми- ровали у наших предков представления о загробном мире, отразившиеся в многочисленных живописных сюжетах, изображающих ад, рай, мытарства и муки [6, с. 583].
Эмоциональная палитра «Видения апостола Павла» построена на контрастном противопоставлении двух основных чувств – радости и печали.
Рассматривая радость в ряду «констант» русской культуры, Ю.С. Степанов отмечает, что этот концепт плохо описан в русской и мировой культуре вообще, и определяет первичное значение старославянского и древнерусского радъ как «готовый к благодеянию – его совершению или восприятию» [8, с. 309]. В.В. Колесов указывает на то, что в древнерусских текстах радость представлена как благодать, исходящая от Бога [4, с. 239].
Прямые номинации радости, представленные в тексте «Видения», не отличаются разнообразием: в подавляющем большинстве случаев используется лексема hfljdfnbc5 .
Этот глагол в древнерусском языке имел значение «радоваться, веселиться» (СлРЯ XI– XVII, вып. 21, с. 123), которое реализуется и в рассматриваемом тексте, например: b ghbl‘ yf cnh4n‘yb‘ ‘5 fyuãk] . [hfybdm . gj dc5 líb . b h‘ ( ÷ ) ‘b v=;fbc5 lø‘ . f ( p ) ,j hf ( l ) e.c5 3 n‘,‘ , (ВАП, л. 233 об.). Будучи употребленным в таком значении, глагол hfljdfnbc5 реализует семантический признак ‘процесс эмоционального переживания’, процесс является состоянием, относящимся к сфере субъекта, а переживание – длительным положительным чувством, характеризующимся средней степенью интенсивности; субъект является одушевленным, конкретным.
Для обозначения эмоционального переживания радости может также употребляться глагол d‘c‘kbnbc5 : dc5r] ,j b ( ; ) d‘c‘kbn c5 3 ,É4 (ВАП, л. 240). Данная лексема синонимична глаголу hfljdfnbc5 и зафиксирована в словарях в значении «веселиться, радоваться» (СлРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 111). В этом значении она реализует семантический признак «процесс эмоционального переживания»: процесс является состоянием, относящимся к сфере субъекта, а переживание – положительным чувством, характеризующимся средней степенью интенсивности; субъект – одушевленным, конкретным.
Сопоставление приведенных примеров употребления глаголов hfljdfnbc5 и d‘c‘kbnbc5 , управляющих именем в форме местного падежа с предлогом о , показывает, что радость как личное чувство, которое «переживаешь только ты сам» [4, с. 239], противопоставляется веселью как чувству коллективному: субъект глагола hfljdfnbc5 выражен местоимением – f ( p ) («я», то есть один), а глагола d‘c‘kbnbc5 – словоформой dc5r] («всякий», то есть все).
По сравнению с радостью чувство печали в тексте «Видения» представлено более разнообразно, оно обозначается глаголами, указывающими на внешнее проявление эмоций, – gkfrfnb , hslfnb , gkfrfnbc5 , d]pgkfrfnbc5 .
В рассматриваемом тексте лексемы gkfrfnb и hslfnb характеризуются парным употреблением: nfrj ( ; ) b dcb b ( ; ) gkfx. ( n ) b hslf. ( n ) (ВАП, л. 231); c‘ lh/pbb fyããkb ghbbljif , gh‘ ( l ) gh‘cnjk] áb b d] dhv5 gjrkjyyb5 . b; gkfrf[6 b hslf[/ (ВАП, л. 231 об.) и др.
В древнерусском языке основным для лексемы gkfrfnb было значение «плакать» (СлРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 70). В этом значении она репрезентирует процесс – следствие эмоционального переживания – и, будучи глаголом действия, номинирует внешнее проявление отрицательной эмоции, относящейся к сфере конкретного, одушевленного субъекта.
Глагол hslfnb , выступая в основном значении «рыдать, плакать» (СлРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 273), также мог описывать внешнее проявление отрицательной эмоции, относящейся к сфере конкретного, одушевленного субъекта.
Сведения этимологических словарей позволяют установить древнейшее на славянской почве значение глагола плакать – «бить себя в грудь (в исступлении, в скорби и т. п.)» (Черн., т. 2, с. 38), а также увидеть звукоподражательную основу корневой морфемы глагола рыдать [первоначально и.-е. *reu (тот же, что и в глаголе реветь) «реветь», «вопить», «испускать хриплые звуки», «брюзжать»] (Черн., т. 2, с. 130). Древнейшую семантику корня – «реветь, выть (о животном)» – глагол hslfnb сохраняет и в старейших славянских текстах, о чем свидетельствуют иллюстрации его значений в ис- торических словарях (см., например: СлРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 273).
Словарные материалы позволяют увидеть некоторую двойственность основного значения глагола gkfrfnb : в его описании синкретически соединяются «плакать (заплакать)» и «горевать, скорбеть» (СДР, VI, с. 410); «плакать», «сетовать» и «горевать» (СлРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 70), то есть в тексте он может быть использован для описания и внешнего проявления эмоции, и внутреннего переживания самого чувства. По-видимому, этим обусловливается сочетание глаголов gkfrfnb и hslfnb на основе соединительной связи. В таких случаях мы имеем дело не с речевой избыточностью, а с представлением внутреннего переживания и его внешнего проявления в единстве. То обстоятельство, что подобное сближение находим и в других памятниках письменности, например: Jyf ;‘ [ Мария Магдалина ] iml]ib d]pd4cnb ,sd]ibbv] c] ybv] gkfxeo‘v] cz b hslf.o‘v] (Марк. XVI. 10) Остр. ев., 204 об. 1057 г.; C‘uj l4kz gkfx. b hslf. , hfpev4d] [jnzo.ve ,snb . Патерик Син., 106. XI в. (СлРЯ XI–XVII, вып. 21, с. 273), – позволяет говорить об устойчивой речевой формуле.
Подобную семантическую связь (внутреннее переживание – внешнее проявление) находим и в парном употреблении глаголов d]pgkfrfnbc5 è d]pcn‘yfnb : f ( p ) ;‘ gfrs d]cgkfrf ( [ ) c5 b d]cnyf ( [ ) (ВАП, л. 243). Приставочные производные со значением на-чинательности, образованные от gkfrfnbc5 и cn‘yfnb соответственно, сохраняют основное значение бесприставочных производящих.
В древнерусском языке лексема gkfrfnbc5 имела сходное с глаголом gkfrfnb синкретичное основное значение – «плакать», «сетовать» и «горевать» (СлРЯ XI–XVII, вып. 15, с. 71) – и могла использоваться для характеристики как внутреннего мира человека, так и окружающей его действительности.
Глагол cn‘yfnb употреблялся в значении «стонать, рыдать» (Срезн., т. 3, стб. 511) и мог репрезентировать процесс, являющийся следствием как эмоционального переживания, так и физического воздействия. Будучи глаголом действия, обозначавшим внешнее проявление отрицательной эмоции, он относился к сфере конкретного, одушевленного субъекта.
Помимо обозначения действий, ориентированных на внешний мир, глаголы hslfnb и d]pcn‘yfnb сближает и высокая интенсивность описываемой эмоции (в отличие от gkfrfnb и gkfrfnbc5 , передающих эмоции средней интенсивности).
С глаголами d]pgkfrfnbc5 , gkfrfnb и gkfrfnbc5 могли употребляться лексемы, обозначающие и сниженную интенсивность проявления эмоционального переживания: f ( p ) ;‘ cksif ( â ) cb d]p ( l ) j[ye ( [ ). b d]cgkfrf ( [ ) c5 (ВАП, л. 241 об.–242).
Основным для глагола dplj[yenb ( djplj[yenb ) являлось значение «сделать вдох»: Enhj,f uj pfn‘x‘ , b y‘ vj;‘ djplj[yenb . Ж. Кир. Б., 85. XVII в. ~ XVI в. (СлРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 148), в котором он может быть отнесен к лексико-семантической группе глаголов физиологического действия. Наряду с указанными, словарь фиксирует и значение «вздохнуть, опечалившись»: (1185): Cdznjckfd] ;‘ nj cksifd] b d‘kmvb djplj[yed] , en‘h] ck‘p] cdjb[ b h‘x‘ . Ипат. лет., 645. (СлРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 148). В этом случае анализируемый глагол реализует семантический признак «процесс, являющийся следствием эмоционального переживания» и обозначает внешнее проявление отрицательной эмоции низкой интенсивности, которая относится к сфере конкретного, одушевленного субъекта.
На особую значимость интенсивности переживания для древнего автора указывает фрагмент, построенный по принципу градации: b dbl4 ( [ ) z djp ( l ) 3[yj ( e ) if , b gkfx.ofc5 . b djpjgb.of gjvbkj ( e ) b ys u ( ñ ) b (ВАП, л. 241 об.). Ряд djplj[yenb , gkfrfnbc5 в данном контексте дополнен лексемой djpjgbnb «закричать, воскликнуть» (СлРЯ XI–XVII, вып. 2, с. 302), относящейся к глаголам речевой деятельности и обозначающей в приведенном контексте внешнее проявление отрицательной эмоции высокой интенсивности. Подобное построение предложения позволяет передать нарастающую силу эмоции, переживаемой персонажами.
Эмоции радости и печали образуют устойчивое противопоставление, прослеживающееся на разных этапах развития сюжета. Так, ангелы радуются, видя людскую добродетель, и печалятся, наблюдая, как люди отступают от божественных заповедей; душа праведника обретает радость, а душа грешника погружается в пучину скорби; радостью наполнено изображение Рая, тогда как голоса мучающихся в Аду грешников сливается в едином вопле рыдания.
Однако в апокрифе лексемы hfljdfnbc5 и d]cgkfrfnbc5 , обозначающие соответственно положительное и отрицательное эмоциональные переживания, могут употребляться в одном контексте, обозначая переживание одного и того же персонажа: b dbl4 ( [ ) bcf. ghbi ( l ) w‘kjd ( f ) v5 . hf ( l ) ebc5 w‘kjdfd ;‘ v5 b -dhfo‘c5 , b d]cgkfrf h‘x‘ (ВАП, л. 238 об.). Таким образом автору удается передать крайнюю степень душевного волнения героя.
А.Н. Робинсон отмечает : «Плач со слезами был непременным условием искреннего покаяния... Постоянные описания плача тесно связанны с традиционной фразеологией и символикой» [7, c. 218]. Именно слезы в апокрифе выступают основой для сопереживания: yí4 ;‘ gkfxn‘c5 b f ( p ) gkfx. ( ñ ) c dfvb (ВАП, л. 247). Плач, являясь внешним проявлением отрицательных эмоций – печали, скорби, отчаяния, – становится положительной характеристикой раскаявшегося персонажа. В анализируемом тексте и в целом в православной культуре плач противопоставлен смеху как атрибуту неверия, отступления от веры: 3yb ( ; ) cv45[6c5 ckjd‘c‘ ( v ) vjb ( ì ) (ВАП, л. 249 об.–250).
Итак, анализ употребления глаголов эмоций в тексте апокрифа «Видение апостола Павла» позволил установить некоторые закономерности функционирования рассматриваемых языковых единиц.
Во-первых, эмотивные глаголы организуют повествование, образуя контрастные противопоставления. Так, в целом в тексте «Видения» складывается оппозиция: радостное, связанное с небесным, Божественным, и печальное, связанное с мирским, грешным. Печаль герои апокрифа переживают в их земной жизни и получают радость в жизни небесной. Исключение составляют грешники, отказавшиеся от благочестивой жизни и поэтому не заслужившие божественной радости. Созерцание их грехов и последующих мучений в Аду вызывает чувство глубокой печали.
Во-вторых, в тексте противостоящие лексемы со значениями «радоваться» («веселиться») и «печалиться» («плакать»), представляющие поощряемые чувства, оказываются вовлеченными в оппозицию с лексемой, обозначающей смех ( cv45nbc5 ) как нечто непоощряемое или даже недопустимое. Таким образом, существующая в языке оппозиция положительные – нейтральные – отрицательные эмоции в тексте дополняется лингвокультурологическими характеристиками: в зависимости от выбранной системы координат – психологической (удовольствие/не-удовольствие) или морально-этической (по-ощряемое/недопустимое) – оценка переживаний меняется.
В-третьих, в апокрифе реализуется характерная черта древнего текста – употребление в одном контексте близких по значению глаголов эмоций, образующих своеобразные речевые формулы. Обращение к этимологии слов и рассмотрение парадигматических связей данных языковых единиц в лексической системе древнерусского языка позволяет интерпретировать такие сочетания не как тавтологический повтор, а как соединение внутренних и внешних характеристик эмоционального переживания, помогающее читателю верно разобраться в сути изображаемого, способствующее созданию особой христианской эмоционально-нравственной атмосферы.
Список литературы Функционирование глаголов эмоций в древнерусском апокрифическом тексте
- Горбань, О. А. Древнерусские глаголы движения в системе языка и в тексте/О. А. Горбань. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. -332 с.
- Горбань, О. А. Лингвистические идеи профессора С.П. Лопушанской в контексте современной научной парадигмы/О. А. Горбань, Е. М. Шептухина//Ученые записки Казанского университета. Сер. «Гуманитарные науки». -2011. -Т. 153, кн. 6. -С. 7-15.
- Дмитриева, Е. Г. Изменения смысловой структуры глаголов эмоций в древнерусском языке/Е. Г. Дмитриева//Вестник Волгоградского государственного университета. -Сер. 2, Языкознание. -2010. -№ 1 (11). -С. 14-19.
- Колесов, В. В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5 кн. Кн. 3. Бытие и быт/В. В. Колесов. -СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2004. -400 с.
- Лопушанская, С. П. Развитие и функционирование древнерусского глагола/С. П. Лопушанская. -Волгоград: Изд-во ВПИ, 1990. -114 с.
- Мильков, В. В. Хождение Богородицы по мукам/В. В. Мильков//Мильков, В. В. Древнерусские апокрифы/В. В. Мильков. -СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. -С. 582-583.
- Робинсон, А. Н. Комментарий/А. Н. Робинсон//Жизнеописание Аввакума и Епифания: Исследования и тексты. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -С. 210-360.
- Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования/Ю. С. Степанов. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. -824 с.
- Хачатурян, Л. М. Видение апостола Павла Л. М. Хачатурян//Мильков, В. В. Древнерусские апокрифы/В. В. Мильков. -СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. -С. 528-529.