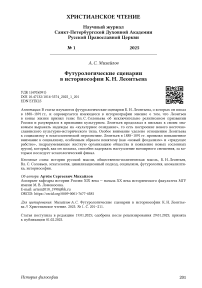Футурологические сценарии в историософии К. Н. Леонтьева
Автор: Михайлов А.С.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье изучаются футурологические сценарии К. Н. Леонтьева, о которых он писал в 1888-1891 гг., и опровергается имеющееся в историографии мнение о том, что Леонтьев в конце жизни принял тезис Вл. С. Соловьева об исключительно религиозном призвании России и разуверился в призвании культурном. Леонтьев продолжал в письмах к своим знакомым выражать надежды на «культурное созидание», то есть построение нового восточно-славянского культурно-исторического типа. Особое внимание уделено отношению Леонтьева к социализму в эсхатологической перспективе. Леонтьев в 1888-1891 гг. проявлял повышенное внимание к социализму, особенным образом понятому (как «новый феодализм» и «градущее рабство», подразумевающее жесткую организацию общества и появление новых сословных групп), который, как он полагал, способен задержать наступление всемирного смешения, за которым последует эсхатологический финал.
История русской мысли, общественно-политическая мысль, к. н. леонтьев, вл. с. соловьев, эсхатология, цивилизационный подход, социализм, футурология, апокалиптика, историософия
Короткий адрес: https://sciup.org/140309272
IDR: 140309272 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_201
Текст научной статьи Футурологические сценарии в историософии К. Н. Леонтьева
На закате своих дней К. Н. Леонтьев подверг глубокому переосмыслению ключевые аспекты собственной историософии. Под сенью храмов Оптиной пустыни он продумывал различные варианты будущего России. Наиболее емкое выражение эти футурологические сценарии нашли в его переписке, где «оптинский отшельник», как иногда называли Леонтьева современники, формулирует три пути, по которым вскоре может пойти Россия.
Первый из них наследовал прежним леонтьевским историософским построениям и предполагал создание собственной оригинальной культуры, то есть нового культурно-исторического типа. Второй сценарий вторил чаяниям Вл. С. Соловьева по подчинению «славянской государственности» папству. В свою очередь, третий вариант сводился к установлению социалистического режима, который стер бы «с лица земли буржуазную Европу» (Леонтьев, Розанов, 2014, 536).
Впрочем, помимо этих трех вариантов, был еще и четвертый, эсхатологический. Он выносится за рамки предложенной концепции «трех путей» по той причине, что он является осью всей историософии Леонтьева, пронизывающей также его футурологические построения. Действительно, finis mundi мыслился им как нечто неизбежное. Вопрос лишь в том, как скоро и в связи с какими внешними факторами это произойдет, что способно удерживать наступление конца истории и в чем именно оно будет состоять. Таким образом, под «эсхатологическим сценарием» понимается здесь особый акцент на столь волновавшей Леонтьева в последние годы жизни проблематике конца света. Этот сценарий допускает слияние с «общеевропейской федерацией», гибель России от нашествия с Востока («от меча пробужденных китайцев») или же гибель всего мира из-за крупнейшей катастрофы, могущей быть следствием стремительного научно-технического прогресса.
Описанные метаморфозы в историософии Леонтьева происходили на последнем этапе его творчества (1888-1891), начало которого было спровоцировано статьей Соловьева в «Вестнике Европы» «Россия и Европа» (1888). В ней Соловьев настаивал на том, что русская культура является культурой европейской.
В феврале 1888 г. Леонтьев начал писать статью «Владимир Соловьев против Данилевского», которая публиковалась в журнале «Гражданин» с 8 апреля по 2 июня того же года. Важнейшей составляющей их полемики был вопрос о «призвании» России. Все прежние мысли Леонтьева были связаны с созданием самобытной многоосновной восточнославянской культуры с центром в Царьграде. Такое призвание он называл «культурным». Соловьев настаивал на сугубо религиозном призвании России. Он понимал его как воссоединение Церквей и полагал, что Русская Православная Церковь должна вернуться в лоно Католической. Соловьев утверждал, что всякое государственное, экономическое, научное, философское и эстетическое обособление России от Запада было бы помехой на пути к преодолению Великой схизмы (см.: (Леонтьев, 2007а, 323)). Таким образом, для Соловьева призвание России было религиозным, а для Леонтьева — «культурным», с той оговоркой, что даже создание нового культурно-исторического типа Леонтьеву представлялось лишь отсрочкой конца света и продлением истории на 1000–1200 лет. Другие же футурологические сценарии продления исторического процесса (которые Леонтьев начал продумывать уже после 1888 г.) предполагали «отсрочку» на гораздо меньший временной промежуток.
Р. А. Гоголев, один из немногих исследователей, который занимался эсхатологией Леонтьева специально, проводит в своих работах ту мысль, что Леонтьев после начала полемики с Вл. Соловьевым и последующего за ней пересмотра собственной историософии верил только в религиозное призвание России (см.: [Гоголев, 2006, 215; Гоголев, 2007, 123; Гоголев, 2006, 216]). Возможно, в этом он следует за оценкой прот. Иосифа Фуделя (на которого он по преимуществу ссылается), писавшего, что Леонтьев к концу жизни разуверился во всем, кроме Церкви (цит. по: [Резвых, 2015, 92–93]).
Тем не менее при последовательном чтении корреспонденции и публицистических работ Леонтьева можно убедиться, что «оптинский отшельник» не принял тезиса Соловьева о только религиозном призвании России и даже в последние годы, как будет показано далее, он пишет о будущем России далеко не всегда исключительно в мрачных тонах.
Имеет смысл рассмотреть в хронологическом порядке все места в переписке К. Н. Леонтьева с главными его корреспондентами в последний этап его творчества — с Т.И. Филипповым, прот. И. И. Фуделем, А. А. Александровым, К. А. Губасто-вым и В. В. Розановым, — где так или иначе упоминается тема призвания России.
10 октября 1888 г. он пишет Филиппову, что тот излишне пессимистично смотрит на церковные дела, и хотя сам признаёт, что «все идет к концу», в то же время считает, что «все еще надолго поправимо». Там же он оспаривает мнение Филиппова о том, что история равномерно движется по нисходящей, и предлагает более справедливую, на его взгляд, схему, представляющую собой зигзагообразную линию — тоже, впрочем, нисходящую. Следует сказать, что эта идея появилась у Леонтьева ранее, как минимум к 1885 г.: в примечании этого года к более ранней статье «Как надо понимать сближение с народом» он предлагает ту же схему (см.: (Леонтьев, 2006, 178)). Что касается обозначенного письма Филиппову, то в нем Леонтьев далее поясняет своему собеседнику, что конец действительно неизбежен, однако на пике одного из витков-подъемов, на пути к одному из которых, согласно его схеме, Россия сейчас находится, будет воплощена его мечта о создании многоосновной русской культуры. Этот последний интенсивный подъем мыслитель подписывает на своей схеме как «Царьград и мой проект сосредоточения» (Леонтьев, Филиппов, 2012, 520). Интересно, что по тому же рисунку Леонтьева взятие Царьгра-да и создание самобытной русской культуры не будет последним подъемом: за ним следует еще несколько взлетов и падений, впрочем, уже менее интенсивных — историческое развитие постепенно затухает.
27 апреля 1889 г. Леонтьев в письме к Филиппову выражает надежды на усиление сословного строя в России и присоединение Царьграда, которое, согласно его теории, должно будет стать началом создания оригинальной культуры. Важнейшими составляющими, которые обеспечили бы такое будущее, он называет сословную неравноправность, присоединение Царьграда с последующей «централизацией церковного управления» и сохранение поземельной общины (сохранение самодержавия мыслится conditio sine qua non). Эти три составляющие он считает мерилами того, «имеет ли Россия особую от Запада будущность или она только лет на сто, не более, помоложе Франции и пойдет позднее туда же, т. е. к черту… (в нигилистическую республику, например)» (Леонтьев, Филиппов, 2012, 535). Однако в этом же письме мыслитель просчитывает и иные варианты будущего России, а также переходит к формулированию трех сценариев будушего, о которых было сказано выше.
К. А. Губастову 7 июня 1889 г. Леонтьев писал, что Соловьев действительно оказал на него влияние и теперь он тоже сомневается в каком-либо ином призвании России, кроме религиозного. При этом мыслитель добавляет, что в своих словах он не уверен, и предлагает далее несколько вариантов будущего России, в каждом из которых она будет играть важнейшую роль. Среди этих вариантов Леонтьев отмечает возможность создания «пестрой, своеобразной культуры» в духе Данилевского (и прибавляет неоднозначное «увы, едва ли!»), исполнение религиозного призвания, как пророчит Соловьев, и, наконец, «разрушительносоциалистическое назначение». Важно и другое пояснение Леонтьева: он полагает, что до окончательного, всемирного смешения так или иначе еще далеко, поэтому «предварительной-то борьбы, работы, побед, поражений, неожиданных, то приятных, то ужасных открытий, стеснений и разделений — предстоит еще столько (особенно если вспомнить — какие есть еще миллионы нехристиан на земле), — что будет время и для России исполнить какое-то (теперь еще неясное и спорное), но во всяком случае великое назначение…» (Леонтьев, 2020, 293–294).
Наиболее ярко выражает позицию Леонтьева в вопросе о призвании России письмо к Губастову от 17 августа 1889 г. В нем мыслитель сначала пишет, что видит религиозный подъем в русском обществе, и хотя он и оговаривается, что все это может быть лишь «эфемерной реакцией», от которой через 20–30 лет «и следа не останется», но вместе с тем спрашивает самого себя, прав ли он в этих сомнениях. Леонтьев признаётся, что сейчас он сомневается в религиозно-культурной будущности России чаще, чем когда-либо, однако сам же не вполне доверяет своим сомнениям. С одной стороны, ему не нравится «некоторая вялость правительственных мер», но, с другой стороны, он вспоминает, что «все истинно прочное, вековое создавалось медленно, толчками, нередко неожиданными, идеями смутными, неясными» (Леонтьев, 2020, 319).
В следующем 1890 г. Леонтьев, комментируя отставку Бисмарка, которая, по его мнению, ослабит Германию, главного противника России, говорит: «Дай, Господи! Дожить до войны и присоединения Царьграда» (Леонтьев, Филиппов, 2012, 585). Надо заметить, что пожеланий подобного толка в письмах Леонтьева различным его адресатам можно найти очень много. Надежды на взятие Царьграда он выражал вплоть до самой смерти.
В том же году, в ноябре, в письме к Филиппову Леонтьев рассказывает колоритную историю про грека Михаила Демьяновича Политова, двоюродного брата его жены, который несколько лет назад «открыл случайно греческий огонь». Способ его изготовления Политов готов передать русскому правительству и уже, по словам Леонтьева, ездил в Петербург представлять свое открытие, где был даже проведен эксперимент. Мыслитель просит Филиппова принять Политова с его открытием в Петербурге (см.: (Леонтьев, Филиппов, 2012, 608-609)). Важнее всего здесь пояснение Леонтьева, что использование греческого огня, будь оно даже не слишком эффективным в техническом смысле, было бы важным, самобытным элементом культурного обособления России. В этом же контексте он вспоминает о некоем пророчестве, что Константинополь будет отвоеван у турок только тогда, когда найдут секрет приготовления греческого огня (см.: (Леонтьев, Филиппов, 2012, 608-609)). Во многом фарсовый проект использования русской армией греческого огня все же указывает на то, что Леонтьев намеренно изыскивал признаки, могущие подтвердить его пошатнувшуюся веру в культурносозидательную роль России.
Тема призвания России была одной из ключевых и в переписке с прот. И. Фу-делем. Еще в июле 1890 г. Фудель писал Леонтьеву, что он не согласен с ним только «во взгляде на культуру и призвание России», и в этом он, по собственным словам, поддается влиянию Вл. Соловьева (Леонтьев, Фудель, 2012, 232), то есть признаёт только религиозное призвание России. Спустя некоторое время Леонтьев отвечает ему, что Соловьев и на него оказал довольно сильное влияние в сомнениях относительно русской «культурной оригинальности», и в мнении о скорее религиозном, чем культурном призвании России он с ним «почти», хотя и «не совсем», согласен. Он поясняет далее, что исполнение религиозного призвания было бы невозможным без прочного государства и того самого «идиотропизма» (своеобычности), который предполагает культурное обособление от Запада (Леонтьев, Фудель, 2012, 250). Эту же самую мысль Леонтьев выразил еще в статье «Владимир Соловьев против Данилевского»: для воссоединения с католиками необходимо укрепление как русской государственности, так и православия, на котором эта государственность основывается. Без веры в народе воссоединение не будет иметь смысла, а удержание и укрепление этой веры зависят от сильной организации Церкви (см.: (Леонтьев, 2007а, 360)).
В письме от 19 января — 1 февраля 1891 г. Леонтьев писал прот. И. Фуделю, что Соловьев нападает на «культурное славянофильство», утверждающее идиотропию особенностей России в быту и государственном устройстве, их отличие от западных, а также «самобытность национального духа нашего» скорее из полемических соображений, так как это мешает его главной цели — преодолению схизмы, соединению Церквей под эгидой Рима. Леонтьев убежден, что «для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна все-таки значительно разниться от Запада и государственно-бытовым строем своим». В этом же письме Леонтьев проводит мысль, что можно и не верить в будущее России по Данилевскому, предполагающему четырехосновный культурный тип, но желать его (Леонтьев, Фудель, 2012, 265).
29 марта 1891 г. Леонтьев писал ему же: «Вижу, что пока Россия идет (почти) во всем превосходно, и радуюсь самой вечной гражданской радостью». В этом же письме он намечает два проекта союза государств — славянский союз и восточный. Первый их них, либеральный, означает «гибель», «либеральную революцию» и соответствует панславистским устремлениям. Второй же, восточный союз откроет «новый период созидания», когда под руководством России объединяются четыре православных королевства — Греция, Румыния, «Пансербия», Болгария, — а также два мусульманских государства — Персия и Турция (состоит из остатков азиатской Турции, Сирии, Палестины, Аравии и Египта, из которого предполагается прогнать англичан, а Суэцкий канал подвергнуть «международной нейтрализации»). Леонтьев предполагает возможных союзников и противников при таком раскладе и далее комментирует: «При таком сочетании сил — я в победе нашей уверен». Обо всем этом он предлагает представить записку императору (Леонтьев, Филиппов, 2012, 619–621).
Это письмо интересно главным образом тем, что написано оно было за восемь месяцев до смерти и спустя более чем два года после начала полемики с Соловьевым, который, по словам самого Леонтьева, поколебал его прежнюю веру в призвание России. Очевидно, что эта перемена произошла не внезапно, ему требовалось время для осмысления этого спора и переосмысления своей философии истории. Здесь же видно, что даже по прошествии значительного времени после начала полемики с Соловьевым Леонтьев хотя и пересмотрел свои взгляды, но не отказался полностью от своего прежнего культурного идеала для России и все еще предлагает возможные варианты его воплощения.
Розанову 13 июня 1891 г. он писал, что «ряд блестящих торжеств еще будет у России, бесспорно, в ближайшем будущем» (уместно здесь вспомнить упомянутую выше нелинейную схему будущего развития России, которую Леонтьев представил в письме к Филиппову), хотя и подчеркивал, что «человечество старо» и сам он уже ничего не надеется изменить: «И если Россия осуждена, после короткой и слабой реакции, вернуться на путь саморазрушения, что „сотворит“ один и одинокий пророк?» (Леонтьев, Розанов, 2014, 253).
В письме к Розанову от 30 июля 1891 г. Леонтьев обещает ему выслать тетради, в которых собраны отзывы о леонтьевских публицистических работах и по случаю отправки их Розанову снабжены его собственными комментариями (Леонтьев, Розанов, 2014, 275). В примечании к одной из критических статей, посвященных сборнику «Восток, Россия и славянство», Леонтьев описывает проект «Восточного союза», схожий с тем, о котором он писал ранее Филиппову. Согласно этому проекту, для создания «Восточной конфедерации» России потребуется разрушение владычества турок в Европе при сохранении его в Азии и Африке, а Австрию предполагалось ослабить, но не уничтожать, чтобы она стала противовесом против Германии и «либеральных западных славян» в том случае, если империя Гогенцоллернов распадется (в последнем случае роль Австрии сводится к санитарному кордону). Сохранение суверенной Германии также важно для сохранения баланса сил в Европе, потому как ее существование будет сдерживать геополитическое влияние Франции. Военный союз между Российской империей и Францией Леонтьев оценивал положительно, ибо Франция может «своими кровью и деньгами» помочь «России разрешить Вост[очный] вопрос», тогда как сама Франция, разъедаемая либерализмом и социализмом, будет еще быстрее «склоняться к упадку» в культурном смысле (Леонтьев, Розанов, 2014, 576–577).
Данная маргиналия атрибутируется самим Леонтьевым как «Прим. 1891 года», поэтому сложно ее датировать точнее: она могла писаться как незадолго перед отправкой (впрочем, надо заметить, что она находится в середине опубликованных «Тетрадей с наклейками»), так и за некоторое время до нее (например, в конце марта того же года, когда он описывал аналогичный проект в письме к Филиппову).
Как можно видеть, Леонтьеву в последние годы жизни был присущ особый тон, гораздо более мрачный, чем прежде. Отец Иосиф Фудель, приезжавший в Оптину пустынь как раз в это время (июнь 1891 г.), отметил эту перемену в общем настроении
Леонтьева: «…он был в настроении скрытой внутренней тревоги, но внешне более спокоен, чем когда-либо раньше». По его словам, Леонтьев «как бы постепенно отчуждался от этого мира». Протоиерей И. Фудель поясняет, что если раньше разговоры Леонтьева о конце света еще «поглощались как-то… спорами или же его мечтаниями о призвании России», то теперь бывший консул «не мысленно только приходил к положительному выводу, а видел воочию приближающийся конец» (Фудель, 2012, 463–464). Отсюда о. И. Фудель и делает вывод, что Леонтьев «в последние годы» принял тезис Соловьева о религиозном призвании России, а собственные его надежды потерпели крах. Вместе с тем нельзя не учитывать и то, что о И. Фудель мог переоценить значение этой последней перемены в общем настроении Леонтьева, который в то время готовился принять постриг (это случилось 18 августа того же года).
Итак, письма 1888-1891 гг., в которых затрагивается вопрос культурного или религиозного призваний России, свидетельствуют о том, что Леонтьев не принял тезиса Вл. Соловьева об исключительно религиозном призвании России и не оставил окончательно надежд на создание славяно-восточной новой многоосновной культуры. Однако перемен в его историософии отрицать не приходится. После начала полемики с Соловьевым в мысли Леонтьева действительно отчетливо прослеживаются эсхатологические мотивы, он начинает сомневаться в воплощении своего «культурного идеала». Произошедшую перемену в своей мысли отмечал и сам «оптинский отшельник». Однако окончательно надежд на построение славяно-восточной культуры он не оставил. По его же собственному выражению, в «культурный идеал» необязательно верить, но желать его осуществления ничто не мешает. Складывается впечатление, что Леонтьев сам не мог (или не хотел) поставить точку в вопросе о возможности построения новой многоосновной культуры: определенные отрывки из его писем свидетельствуют, казалось бы, о полном разочаровании в «культурном идеале», однако нередко за мыслью о сомнительности или полной невозможности воплощения этого идеала следует другая, выражающая надежды на положительный исход или как минимум задержание разлагающих, смешивающих и уравнивающих процессов в обществе. Мыслитель время от времени сомневался в осуществлении своего «культурного идеала», но не разочаровался в нем окончательно. Он не признал истинным тезис Соловьева об исключительно религиозном призвании России, хотя и допускал такой сценарий в качестве одного из возможных. Следует отметить, что Леонтьев, при всех своих симпатиях к католичеству, признал бы необходимость соединения Церквей под главенством Римского папы только в том случае, если такое решение примет «Восточно-Вселенский Собор», который определит в том числе отношение к католичеству (см.: (Леонтьев, Фудель, 2012, 302)). Византию и «Фанар» мыслитель предпочитал Риму до тех пор, пока «все восточное духовенство не велит нам смириться перед св[я-тым] отцом — преемником Петра!» Показательны в смысле отношения Леонтьева к католичеству его слова о том, что он «и теперь готов с радостью (не изменяя восточному догмату) поцеловать у Льва XIII туфлю» (Леонтьев, Фудель, 2012, 90).
Нерешенность этого вопроса для Леонтьева прослеживается не только по переписке. Это ясно видно в том числе по черновой редакции работы «Культурный идеал и племенная политика» (1890). Можно заметить смену настроения мыслителя непосредственно во время написания статьи. Сначала он пишет про восточный союз, взятие Царьграда, «перенесение духовно-культурного центра тяжести из „финских блат“ на берега Босфора» и считает для России эту будущность обеспеченной — разве что сомневается в том, будет ли она долговечна (Леонтьев, 2009б, 231). Потом он пишет, что период «бессознательного творчества» в истории закончился, но остался еще простор для «сознательного созидания», поэтому можно развить религиозную и «житейскую» самобытность и создать четырехосновный славяновосточный культурно-исторический тип. Но как только мысль Леонтьева перескакивает на равноправность, либерализм и капитализм, подвижность, социализм — он тут же начинает сомневаться в осуществимости мечты о «подлинно национальной» культуре, о которой писал только что: «Иногда я спрашиваю себя: а если и это все мечта?» Если это мечта и если этот идеал «несбыточен», то тогда всемирного вторичного глобального (то есть остатков всех культурно-исторических типов) смешения не избежать. Поэтому Леонтьев подчеркивает, что в сам идеал он верит, но «в минуту таких колебаний» он меньше верит именно в то, что Россия этот идеал сумеет осуществить (Леонтьев, 2009б, 250–252).
Этот вариант статьи «Культурный идеал и племенная политика» является черновым и еще недостаточно обработанным. Он представляет собой очень раннюю редакцию работы. Про социализм автор сначала не хочет говорить «по цензурным соображениям», но через несколько страниц все же пишет о нем. Однако эта черновая редакция тем важнее для данной работы, что позволяет проследить ход мыслей Леонтьева: как менялась она при написании этой статьи, так она менялась и в переписке — разница только во времени между этими переменами. Такая неопределенность стала фундаментальной настроенностью бытия Леонтьева в последние годы его жизни и нашла свое последнее выражение в его последних словах, когда он метался в предсмертной лихорадке: «Еще поборемся!» И потом: «Нет, надо покориться!» (см.: (Александров, 1995, 374)).
Необходимо также подробнее остановиться на восприятии Леонтьевым социализма как одного из возможных сценариев. У «оптинского отшельника» выработалось двойственное отношение к социализму — как к следующей ступени либеральноэгалитарного прогресса («ультра-либерализм»), с одной стороны, и как к «новому феодализму», «рабству», с другой стороны.
Капитализм и подвижность Леонтьев рассматривал как параллельные явления, потому что развитие капитализма влечет за собой увеличение подвижности как капиталов, так и людей. Если социалисты («архилиберальные коммунисты») выступают против капитализма, то они неизбежно, уверен Леонтьев, будут бороться и с подвижностью. Ограничение последней автоматически означает попрание прав личности и, следовательно, ведет к неравноправию. Неравноправность и неподвижность требуют наличия «сословий горизонтальных и групп вертикальных», к каковым мыслитель относил провинции, города, общины и семьи — все «неравномерно одаренные свободой и властью». Именно такой вариант социального устройства Леонтьев считал «феодализмом будущего». Феодализм в данном случае он понимал в смысле «глубокой неравноправности классов и групп», «децентрализации и группировки социальных сил», а также «нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим или чем-нибудь облагороженным» (Леонтьев, 2007б, 214–215).
Впервые Леонтьев задумался об экономическом вопросе и роли социализма в 1870-е гг., а в нач. 1880-х его интерес к этой проблематике укрепился (см.: [Фетисенко, 2012, 74]). Интересно, что учение гептастилизма начинает оформляться в русле этих мыслей и параллельно им, то есть в 1882–1883 гг. Исследовательница О.Л. Фетисенко отмечает, что к 1880 г. проблематика ограничения, «спасительного насилия» и «созидательного стеснения» стала регулярной составной частью публицистики Леонтьева (см.: [Фетисенко, 2012, 76]) и дальше эта тема стала появляться в его работах чаще. Если сначала мыслитель говорил о «социалистическом феодализме» осторожно, то в «Письмах о восточных делах» (1882-1883) и впоследствии в статье «Владимир Соловьев против Данилевского» (1888) он уже писал об этом прямо (см.: [Фетисенко, 2012, 77]).
Особенно много рассуждений о социализме содержат те немногие сохранившиеся тексты, которые раскрывают концепцию гептастилизма. Надо сказать, два первых столпа новой семиосновной культуры имеют прототипы в административном устройстве Афонского монастыря. Первый столп — «сосредоточенное в Царьграде православие», то есть церковная организация православия после освобождения Константинополя. Второй столп — «принудительная организация собственности и труда», иными словами, созидательный социализм будущего как «новый феодализм».
В гепталистских текстах Леонтьев проводит ряд параллелей между монастырским устройством и коммунистическим, сравнивая, разумеется, только экономическую, организационную составляющую. Жесткая организация и сословность соответствуют его политическим идеям о сильной самодержавной власти и неравноправности.
В «Четырех письмах с Афона» (второе письмо, 1872 г.) Леонтьев указывает на то, что в киновиях все «более или менее равны», подчиняются «безусловно избранному обществом игумену и помощникам его» (важно пояснение «и помощникам его» — это подразумевает наличие иерархии власти), причем «собственности не сохраняет при себе никто». Такое устройство, уверен Леонтьев, может стать предметом изучения для коммунистов, так как «эта дисциплина, этот страх не материальной природы — это несокрушимая идеальная узда веры, любви и почтения» (Леонтьев, 2005, 139–140).
В этот же период Леонтьев пишет в работе «Византизм и славянство» (1872–1874) о том, что без деспотизма формы «не могли обойтись ни Прудон, ни коммунисты: первый желал бы покрыть всю землю малыми семейными скитами, где муж-патриарх командовал бы послушниками, женой и детьми, без всякого государства». Коммунисты же, в свою очередь, стремились бы к тому, чтобы «распределить все человечество по утилитарным киновиям, в которых царствовал бы свободно свальный грех под руководством ничем не ограниченного и атеистического конвента» (Леонтьев, 2005, 409).
В начатом еще в бытность Леонтьева на Афоне в 1872 г. (напечатан в 1884–1885 гг.) историософском трактате «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» он снова заводит разговор о будущем «принудительном» характере коммунизма, который приведет к установлению «нового рабства» — и в этом контексте, как заметила О. Л. Фетисенко (см.: [Фетисенко, 2012, 79]), хотел перейти к теме сравнения такого устройства с монастырским, но в итоге оставляет эту задумку, свидетельством наличия которой является примечание «Монахи», сделанное Леонтьевым в конце абзаца (Леонтьев, 2007б, 213).
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о «криптоафонском» ядре гептасти-листского проекта Леонтьева.
В статье «О всемирной любви» (1880) Леонтьев, говоря о неотвратимости социализма, «по крайней мере, для некоторой части человечества», прогнозирует два сценария дальнейшего развития: или «победители устроятся… свободнее, либеральнее нас» (имеется в виду коммунизм как «гиперлиберализм»), или, напротив, «законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже страшнее» (подразумевается коммунизм как «феодализм будущего»). На втором сценарии Леонтьев останавливается подробнее. Он поясняет: «В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях (например, на Афоне)». Мысль о загробном блаженстве среди афонского киновата видится Леонтьеву ключевой, так как позволяет вывести его из «лабиринта ежеминутной тонкой борьбы». При этом он выражает неуверенность по поводу того, «будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий» (Леонтьев, 2014, 200–201).
После 1888 г. Леонтьев начинает мыслить будущее России разновариантно, отказавшись от веры в безусловную осуществимость гептастилистского идеала. Вместе с тем мысль о социализме, включенном прежде в качестве второго из семи столпов, у него не только сохранилась после 1888 г., но еще и в значительной мере усилилась, стала появляться чаще в его письмах и публицистике.
Социализм, как Леонтьев писал Губастову 17 августа 1889 г., должен будет стать новой формой, новой организацией общества, которая если и должна быть кем-то учреждена, то самодержавным царем: «…славянский Православный Царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной». Такой социализм, по Леонтьеву, будет представлять из себя «троякое рабство» — общинам, Церкви и царю (Леонтьев, 2020, 322).
Аналогичные мысли можно найти в переписке с Розановым. 13 июня 1891 г. Леонтьев в письме возлагает надежды на союз «социализма („грядущее рабство“ по мнению либерала Спенсера) с Русским Самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить как собака) — это еще возможно, но уж жутко же будет многим» (Леонтьев, Розанов, 2014, 253). Ту же мысль «оптинский отшельник» выразил в уже упомянутом письме к Филиппову 27 апреля 1889 г., в котором он предполагает три возможных варианта русского будущего (Леонтьев, Филиппов, 2012, 536).
«Монархической социализм», способный создать новую организацию, ограничив общую подвижность в обществе (горизонтальную, вертикальную и подвижность капиталов), Леонтьев считает необходимой мерой, чтобы приостановить наступление всемирного смешения и продлить тем самым историю. Роль социализма является, таким образом, скорее сдерживающей, реакционной. Леонтьев начиная с 1888 г. больше надеялся на «подмораживание», чем на созидание, — впрочем, и после 1888 г. он подчеркивает кратковременность и недолговечность этих «подмораживающих» мер. Так, в письме к Губастову от 15 марта 1889 г. он комментирует свои ранее сказанные слова о социализме как «феодализме будущего» в том смысле, что либерализм является сугубо разрушительным, в то время как социализм «может стать созиданием», однако созидание это «купится ценою долгой приостановки того безумного движения, которое охватило теперь (с 18 века) разрушаемый эгалитарной свободой старый мир» (Леонтьев, 2020, 231). Леонтьев поясняет, что в противном случае, если социализм не будет в состоянии создать «новое неравенство» и «новую разновидность развития» путем или реформ, или крови, то в таком случае «близится конец всему». Таким образом, приостановка подвижности посредством социализма способна, пишет Леонтьев, «задержать (но не навсегда устранить) приближение неминуемого все-таки „светопреставления“» (Леонтьев, 2020, 231).
Тема «государственного рабства» в лице социализма, установленного сверху, русским царем, появляется также в письме к Александрову 3 мая 1890 г. Саму эту идею Леонтьев находит «чуждой» его вкусам, однако, полагаясь на свои предчувствия, считает ее объективной («объективно и беспристрастно предчувствую») и проводит параллель с Константином Великим, вставшим во главе христианского «движения», что способствовало «организации христианства». Слову «организация» Леонтьев придает большое значение — для него это «благоустроенный деспотизм», а также «узаконение хронического, постоянного, искусно и мудро распределенного насилия над личной волей граждан» (Леонтьев, 2020, 447).
Таким образом, Леонтьев видел в «монархическом социализме», который создаст прочную организацию общества и станет «грядущим рабством», надежду на отсрочивание наступления самой последней фазы триединого процесса — всемирного смешения. В этом состоит отличие от прежних его идей о создании семиосновной культуры. Тот идеал подразумевал создание полноценного культурно-исторического типа, период существования которого составил бы 1000–1200 лет. После разочарования в гептастилизме Леонтьев, не оставляя все-таки надежд на «культурное созидание», начинает отводить существованию России и мира гораздо меньший временной срок, ибо человечество, как он писал в 1890 г., сильно устарело.