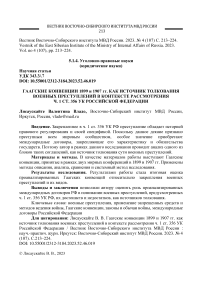Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. как источник толкования военных преступлений в контексте рассмотрения Ч. 1 ст. 356 УК Российской Федерации
Автор: Лисаускайте Валентина Владо
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Закрепленное в ч. 1 ст. 356 УК РФ преступление обладает историей правового регулирования и своей спецификой. Поскольку данное деяние признано преступным всем мировым сообществом, особое значение приобретают международные договоры, закрепляющие его характеристику и обязательства государств. Поэтому автор в рамках данного исследования проводит анализ одного из блоков таких соглашений, как источник толкования сути военных преступлений.
Военные преступления, применение запрещенных средств и методов ведения войны, гаагские конвенции, законы и обычаи войны, международные договоры российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/143181117
IDR: 143181117 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.55001/2312-3184.2023.52.46.019
Текст научной статьи Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. как источник толкования военных преступлений в контексте рассмотрения Ч. 1 ст. 356 УК Российской Федерации
-
5.1.4. Criminal Law Sciences
Original article
GAAG CONVENTIONS of 1899 and 1907. AS A SOURCE OF INTERPRETATION OF WAR CRIMES IN THE CONTEXT OF THE EXAMINATION OF
THE PART 1 ART. 356 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Valentina V. Lisauskaite
Introduction: The offence set forth in part 1 of article 356 of the Criminal Code of the Russian Federation has a history of legal regulation and its specificity. Since this act is recognised as a criminal act by the entire world community, international treaties that enshrine its characteristics and obligations of states are of particular importance. Therefore, the author within the framework of this study analyses one of the blocks of such agreements as a source of interpretation of the essence of war crimes.
Materials and Methods: the Hague Conventions adopted at two peace conferences in 1899 and 1907 serve as the materials of the work. The methods of description, analysis, comparison and systematic method of research were applied.
The Results of the Study: The work resulted in a final assessment of the analyzed Hague Conventions on the establishment of war crimes and their types.
Findings and Conclusions: allowed the author to assess the role of the analyzed international treaties of the Russian Federation in understanding the war crimes provided for in Part 1 of Article 356 of the Criminal Code of the Russian Federation, their advantages and disadvantages as sources of interpretation.
При анализе военных преступлений в рамках ч.1 ст. 356 УК РФ1, к сожалению, мы сталкиваемся с отсутствием конкретизации в диспозиции признаков состава, как это характерно для многих других противоправных деяний Уголовного закона. В данном случае в ч. 1 указанной статьи присутствует лишь перечисление альтернативных действий, совершение которых рассматривается в качестве преступления. При этом, как отмечают многие ученые, сама диспозиция носит открытый характер за счет формулировки «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами» России. То есть для качественного понимания состава преступления нам необходимо определиться, о каких именно международных договорах Российской Федерации идет речь и какие именно средства и методы ведения войны запрещены в них.
В научной литературе и средствах массовой информации, когда идет речь о фактах совершения военных преступлений, часто говорят о нарушении положений Женевских конвенций 1949 г. Однако международно-правовые основы закрепления запретов и ограничений порядка ведения военных действий были заложены гораздо ранее и в рамках другой группы соглашений – Гаагских конвенций, подписанных в рамках двух мирных конференций 1899 и 1907 гг. Возникает естественный вопрос: почему эти международные соглашения не упоминаются официально? На наш взгляд, объективным объяснением могут быть следующие факты:
-
1. В положениях Гаагских конвенций закреплено правило, согласно которому, обязательность их исполнения возложена только на участников самих соглашений 2 . То есть в них был закреплен конвенционный характер. Как отмечает О. Ф. Эфендиев: «в связи с этим, если в войну вступало государство, не являющееся участником конвенции, то она переставала действовать даже в отношении между ее участниками» [1, с. 25]. Это правило было изменено именно Женевскими конвенциями, положения которых обязательны для всех государств, вне зависимости от их участия в данных соглашениях.
-
2. Многие положения Гаагских конвенций были перенесены в Женевские соглашения 1949 г., откорректированы и усовершенствованы. Однако далеко не все законы и обычаи войны из Гаагских документов были перенесены.
-
3. Сложный вопрос о правопреемстве для России обязательств по Гаагским конвенциям в связи с официальной позицией Советского государства еще в 1918 г. о непризнании себя в качестве правопреемника Российской Империи. В данном случае есть правовая позиция, позволяющая нам подтвердить данный факт. Она отражена в Ноте МИД СССР Правительству Нидерландов относительно Гаагских конвенций и деклараций 1899 и 1907 гг. В этом документе указано, что СССР признает обозначенные международные акты в той мере, в какой они не противоречат Уставу ООН 3 . Поскольку Россия является правопреемником СССР4, то и обязательства по Гаагским конвенциям имеют для нашей страны обязательную юридическую силу.
Поэтому для полного и всестороннего исследования военных преступлений, на наш взгляд, следует заглянуть в историю и отметить ряд правовых особенностей, не вошедших в Женевские конвенции, а также динамику изменений юридического закрепления отдельных законов и обычаев войны, которые имеют существенное значение в современной квалификации международных преступных деяний. По мнению ученых, кодификация на международно-правовом уровне законов (норм) и обычаев войны в Гаагских конвенциях и Декларации 1899 и 1907 гг. привела к формированию такого международно-правового понятия, как «военные преступления» [2, с. 5].
В научной литературе сформировалась достаточно однозначная позиция относительно роли Гаагских конференций и принятых на них документов. Авторы сходятся во мнении о том, что, несмотря на высокий уровень достигнутых правовых договоренностей с точки зрения развития международного гуманитарного права, далеко не все из них были достигнуты, либо не нарушались, о чем свидетельствуют факты Первой мировой войны [3; 4; 5]. В тоже время, следует подчеркнуть, что юридическим результатом проведения двух Мирных Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. стало принятие большого пакета документов по различным вопросам относительно участия государств в вооруженном конфликте. В 1899 г. появились три конвенции: «О мирном разрешении международных столкновений», «О законах и обычаях сухопутной войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 г.»; а также три декларации: «О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов»; «О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы»; «О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле».
Исследователи отмечают, что в рамках документов, принятых на первой конференции (1899 г.), ни в одном из них не был отражен вопрос об ответственности за нарушение их основных положений [1, с. 22]. Не в оправдание, а в обоснование данного обстоятельства, на наш взгляд, можно выделить несколько фактов:
-
1. Государства только начали создавать договорную (а не обычную) правовую платформу с закреплением порядка ведения военных действий.
-
2. В тот период времени вооруженный конфликт еще являлся законным, естественным, хоть и нежелательным способом разрешения споров между государствами. Сама война была правомерна, поэтому говорить об ответственности за нарушение ее правил было сложно.
-
3. Рассматриваемые отношения находились на стадии своего правового закрепления с учетом гуманизации общества, нового порядка его жизни, развития научно-технического прогресса. Соответственно, говорить уже об ответственности за нарушение только устанавливаемых законов и обычаев войны было еще рано.
2020 года) (В редакции указов Президента Российской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 25.07.2003 № 841; федеральных конституционных законов от 25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 14.10.2005 № 6-ФКЗ, от 12.07.2006 № 2-ФКЗ, от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 № 5-ФКЗ; законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ; Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; Указа Президента Российской Федерации от 27.03.2019 № 130; Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; федеральных конституционных законов от 04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6-ФКЗ, от 04.10.2022 № 7-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: (дата обращения: 07.07.2023) (дата обращения 25.08.2023 г.)
Гаагская мирная конференция 1899 г. стала важнейшим этапом в кодификации международного права, первым серьезным шагом в гуманизации войны [6, с. 26].
В рамках проводимых международных мирных конференций в последующие годы уже отмечаются попытки государств – участников закрепить ответственность или отдельные ее формы применения. В итоге работы Второй Гаагской конференции были пересмотрены три конвенции предыдущего форума и приняты десять новых конвенций относительно законов и обычаев войны, а также декларация и семь резолюций [7, с. 36.]. Этот нормотворческий процесс стал первой в истории международного права крупной кодификацией законов и обычаев войны, а также мирного разрешения международных споров [8, с. 32]. Результатом второй Мирной Гаагской конференции стало принятие 13-ти конвенций:
-
– О мирном решении международных столкновений;
-
– Об ограничении в применении силы при взыскании по договорным долговым обязательствам;
-
– Об открытии военных действий; О законах и обычаях сухопутной войны;
-
– О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны;
-
– О положении неприятельских торговых судов при начале военных действий;
-
– Об обращении торговых судов в суда военные;
-
– О постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин;
-
– О бомбардировании морскими силами во время войны;
-
– О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне;
-
– Об учреждении Международной призовой палаты;
-
– О правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны.
Такое большое количество соглашений, на наш взгляд, объясняется намеренной раздробленностью на более узкие вопросы, нуждающиеся в международном урегулировании в связи с опасением организаторов Конференции не набрать необходимого количество участников для дальнейшего вступления их в силу. Такой подход создает определенную психологическую иллюзию, что государство берет на себя лишь конкретное узкое обязательство, а в результате начал действовать почти весь пакет принятых договоров.
Следует отметить, что не все выше перечисленные Гаагские документы содержат правила, нарушение которых можно соотнести с военными правонарушениями. Поэтому рассмотрим некоторые из них.
-
1. Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне 1907 г.
-
2. Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны 1907 г.6
-
3. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.
Договор устанавливает запреты на осуществление определенных военных действий, которые не рассматриваются в качестве военных преступлений международными соглашениями, принятыми позднее. Такие действия нарушают установленный порядок ведения военных действий и могут рассматриваться, на наш взгляд, в качестве военных деликтов. Например, ст. 3 Конвенции закрепляет правило: «Суда, исключительно предназначенные для берегового рыболовства или для потребностей мелкого местного мореплавания, не подлежат захвату, как равно и их машины, снасти, приспособления и груз» 5 . Аналогичного характера правила содержатся и в Конвенции об обращении торговых судов в суда военные 1907 г.
Уже исходя из названия данного соглашения, можно говорить о закреплении в нем методов ведения военных действий. А значит, и их запретов или ограничений, нарушение которых следует рассматривать как военное правонарушение или преступление. К запрещенным методам следует отнести:
– бомбардировку морскими силами незащищенных портов, городов, селений, жилищ или строений;
– отдачу на разграбление города или места, взятых приступом.
К ограниченным методам Конвенция относит изначально запрещенные действия при наличии определенных условий: «эти объекты (порты, города, селения, жилища и строения) можно бомбить, если специально оповестили, а местные власти после этого отказались подчиниться и предоставить продовольствие или запасы, необходимые для нужд. Но такая реквизиция возможна только по решению начальника морских сил»7. Как отмечает профессор Котляров: «Бомбардировка защищенных портов, прибрежных городов не противоречит нормам права. Однако при этом должны соблюдаться нормы права, запрещающие бомбардировать культурные ценности, исторические памятники, госпитали и т. д.» [9, с. 55]. В этом обстоятельстве и выражается установленное ограничение на рассмотренный метод. Относительно бомбардировки гражданских объектов, уже в Женевских конвенциях сам факт таких действий (любыми войсками) в отношении гражданских объектов был запрещен.
-
А. Строителев отмечает: «Переломным моментом в формировании норм права вооруженных конфликтов стало принятие 1-й Гаагской конференцией мира 1899 г. Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны» [10, с. 16.]. В содержание этого договора вошли положения конвенций, принятых в 1899 г. («О законах и обычаях сухопутной войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 г.»). В Конвенции закрепляются категории лиц, признаваемых в
качестве участников вооруженного конфликта. Позднее, уже в Женевских конвенциях, этот перечень будет конкретизирован и расширен. Определен правовой статус военнопленных, раненных и больных, а следовательно, устанавливаются запреты и ограничения, нарушение которых можно рассматривать в качестве военных преступлений. Здесь также встречаются отдельные правила, которые в Женевских конвенциях получили более жесткое закрепление. Например, ст. 52 Положения о законах и обычаях сухопутной войны к Гаагской Конвенции устанавливает, что «Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от общин и жителей лишь для нужд занявшей область армии. Они должны соответствовать средствам страны и быть такого рода, чтобы они не налагали на население обязанности принимать участие в военных действиях против своего отечества 8 ». Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. определила: «Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена.» 9 . Помимо этого, она закрепила обязательство для оккупирующего государства обеспечивать гражданское население продовольствием и санитарными материалами.
В ст. 23 рассматриваемой Гаагской конвенции закреплены запреты на совершение определенных действий. Рассмотрим их относительно средств и методов ведения военных действий и в преломлении к диспозиции ч 1. Ст. 356 УК РФ. Перечень содержит 8 запретов, которые, с учетом их содержания можно разделить на запрещенные методы (п.п. б, в, г, е, ж, з) и запрещенные средства (п.п. а, д.) ведения войны:
-
а) употреблять яд или отравленное оружие;
-
б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к населению или войскам неприятеля;
-
в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или не имея более средств защищаться, безусловно сдался;
-
г) объявлять, что никому не будет дано пощады;
-
д) употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причинять излишние страдания;
-
е) незаконно пользоваться парламентерским или национальным флагом, военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно как и отличительными знаками, установленными Женевской конвенцией;
-
ж) истреблять или захватывать неприятельскую собственность, кроме случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно вызывается военной необходимостью;
-
з) объявлять потерявшими силу, приостановленными или лишенными судебной защиты права и требования подданных противной стороны10.
На наш взгляд, в Конвенции через закрепление таких методов отражается постепенное признание государствами гуманизации общества и прав человека (п. п. б, ж, з). В то же время, необходимо отметить, что закрепление запретов не определяет, какие из них следует рассматривать как серьезные нарушения законов и обычаев войны, т. е. военные преступления. Гипотетически, для выделения таковых среди всех военных правонарушений нам необходимо исходить из специальных принципов международного гуманитарного права, в основе которых лежит, в первую очередь, защита жизни и здоровья человека. С учетом данного критерия к военным преступлениям по ст. 23 Гаагской конвенции можно отнести следующие запрещенные методы: предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к населению или войскам неприятеля; убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или не имея более средств защищаться, безусловно сдался.
В современных правоотношениях закрепление запрета данных методов должно иметь конкретизацию обязательных признаков и иметь самостоятельное закрепление в качестве отдельного состава преступления. Например, выше приведенный п. г ст. 23 Гаагской конвенции (объявлять, что никому не будет дано пощады) нуждается в указании на приказ или распоряжение командования, либо публичное объявление такого приказа лицом, выполняющим руководящие полномочия конкретным военным подразделением. Как отмечают многие исследователи, поскольку в настоящее время нет международного договора, закрепляющего конкретный перечень военных преступлений, обязательный для всех, каждое государство само устанавливает конкретные виды военных преступлений в рамках своего национального уголовного закона.
Запрещенные средства ведения военных действий по ст. 23 Гаагской конвенции заслуживают более детального рассмотрения. Исходя из их содержания, мы можем говорить лишь о направленности запрета. Так, к п. а можно отнести оружие, содержащее ядовитые вещества. В современных условиях таковым могут быть пули, снаряды, применяемые в отношении конкретных лиц, либо отдельные виды оружия массового поражения, например, токсинное оружие. Относительно первых в настоящее время нет соглашения, конкретизирующего такой запрет и виды оружия, в отношении которого он может быть применен, а также детализации самих веществ, рассматриваемых в качестве ядовитых. По токсинному оружию в настоящее время действует Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
1972 г. Однако закрепленный в ней запрет носит конвенционный характер и распространяется только на государства-участников.
К п. д ст. 23 Гаагской конвенции (употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причинять излишние страдания) можно отнести несколько видов оружия, в отношении которых признак причинения излишних страданий юридически закреплен, и сам запрет носит всеобщий характер:
-
- пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в теле человека (запрет был установлен Декларацией 1899 г., подписанной в рамках Первой Гаагской мирной конференции. К таким пулям относят пули с надрезами и полостями);
-
- разрывные боеприпасы (таковые массой до 400 г были запрещены еще Петербургской декларацией 1868 г. «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль»);
-
- зажигательное оружие (запрет установлен также Декларацией 1868 г.).
Эти документы уже были приняты на момент подписания Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. Следовательно, в ее положениях содержится обобщение указанных выше средств ведения войны с учетом их характеристик. Отметим ряд особенностей Деклараций 1868 и 1899 гг.
Так, наименование «декларация» в современном международном праве принято рассматривать в качестве документа рекомендательного характера, который не содержит обязательств государств-участников. Как правило, сам текст деклараций дает характеристику конкретных международных отношений и позиции по ним мирового сообщества. Могут использоваться формулировки: государства рекомендуют, настоятельно призывают, будут способствовать, что еще раз подчеркивает его необязательность.
В рассматриваемом случае обе Декларации представляют собой именно международные договоры, поскольку закрепляют конкретные обязательства сторон в определенной сфере. Сами документы небольшие по объему, выражены сплошным текстом без разделения на статьи или разделы, который по смыслу изложенного можно разделить на преамбулу, обязательства сторон и правила применения документа.
Согласно положениям Декларации 1868 г., закреплено следующее обязательство: «стороны обязуются в случае войны между собой отказаться взаимно от употребления сухопутными и морскими войсками снарядов, которые при весе менее 400 г имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горючим составом»11.
В соответствии с содержанием Декларации 1899 г. «стороны обязуются не употреблять пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле, к каковым относятся оболоченные пули, коих твердая оболочка не покрывает всего сердечника или имеет надрезы»12.
Таким образом, в положениях Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. получили закрепление юридически сформированные в ранее принятых документах положения относительно запрещенных или ограниченных средств и методов ведения войны, которые в последующем вновь будут откорректированы и включены в правила Женевских конвенций 1949 г. Как отмечает Рыбачёнок И.С.: «События двух мировых войн показали, что эта конвенция не была всеобъемлющей, хотя она ограничивала в ряде случаев произвол сторон» [11, с. 144–145].
Проведенный анализ положений отдельных Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг., как источников закрепления военных преступлений, позволяет сделать следующие выводы.
-
1. Данные международные документы свидетельствуют об этапе становления закрепления законов и обычаев войны, нарушение которых в последующие годы будет рассматриваться в качестве военных правонарушений, а некоторые – военных преступлений. В них отражены также правила защиты гражданского населения, военнопленных, культурных ценностей, которые получили свое правовое развитие в принятых после Второй Мировой войны международных договорах.
-
2. Используемые в рассмотренных договорах формулировки весьма расплывчаты, что не позволяет их использовать для квалификации конкретных преступных деяний в качестве военных преступлений. В выявленных в Конвенциях запретах в преломлении к ч. 1 ст. 356 УК РФ можно рассмотреть закрепленные альтернативные действия: «жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением»; «разграбление национального имущества на оккупированной территории». В то время как уже в Гаагских конвенциях таких запретов было больше, чем в указанной норме уголовного закона. В том числе установлены запретные действия в отношении раненных и больных, отдельных видов объектов, которые в ст. 356 УК РФ не упоминаются.
Проведенное исследование позволяет констатировать важную роль Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг. в контексте их рассмотрения как источников международных обязательств Российской Федерации относительно толкования военных преступлений. Характеристика документов свидетельствует о сложном процессе постепенного формирования правил войны в сознании и потребности мирового сообщества. Именно эта проделанная государствами работа позволяет нам сейчас говорить об особенностях уже национального закрепления военных преступлений и их содержании. Несмотря на некорректность, по нашему мнению, преломлять положения Конвенций при толковании ч. 1 ст. 356 УК РФ, эти соглашения являются значимым источником международного права для национального уголовного законодательства.
Список литературы Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. как источник толкования военных преступлений в контексте рассмотрения Ч. 1 ст. 356 УК Российской Федерации
- Волеводз А.Г. Исторические и международно-правовые предпосылки формирования современной системы международной уголовной юстиции // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. №2. С.2-9.
- Котляров И.И. Международное гуманитарное право об ограничении воюющих в выборе методов ведения войны // Московский журнал международного права. 2009. №2. С. 44 - 62.
- Николаев Н.Ю. Участие России в кодификации международного гуманитарного права во второй половине XIX века // Гуманитарные проблемы военного дела. 2019. № 3 (20). С. 21 – 27.
- Николаев Н. Ю. Европейское общественное мнение и Гаагская мирная конференция 1899 года // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2003. № 8. С. 92-96.
- Ореховский В. О. Возникновение и развитие международного гуманитарного права (до середины 60-х гг. XIX В. ) // ЕГИ. 2014. №2 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava-do-serediny-60-h-gg-xix-v (дата обращения 25 июля 2023).
- Рыбачёнок И.С. Россия и Вторая конференция мира 1907 года в Гааге // Новая и новейшая история. 2019. №1. С. 113 – 146.
- Саямов Ю.Н. О Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг. // Россия и современный мир. 2017. №3 (96). С. 33 – 46.
- Строителев А. Источники права вооруженных конфликтов и их современная правовая характеристика // ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. 2012. №6. С. 14 – 23.
- Фархутдинов И.З. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 гг. Кто развязал Первую мировую войну. Опыт доктринального исследования проблем формирования современной модели международных отношений в контексте развития международного права // Евразийский юридический журнал. 2020. №4 (143). С. 29 – 36.
- Чернявский С.И. К 110-летию Второй Гаагской конференции мира // Juvenis scientia. 2017. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-110-letiyu-vtoroy-gaagskoy-konferentsii-mira (дата обращения 25 июля 2023).
- Эфендиев О.Ф. О военных преступлениях в системе законов и обычаев войны // Военно-юридический журнал. 2006. №11. С. 22 – 27.