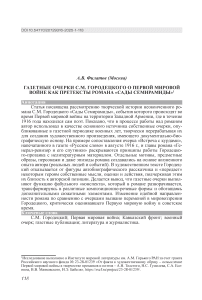Газетные очерки С. М. Городецкого о Первой мировой войне как претексты романа «Сады Семирамиды»
Автор: Филатов А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению творческой истории неоконченного романа С.М. Городецкого «Сады Семирамиды», события которого происходят во время Первой мировой войны на территории Западной Армении, где в течение 1916 года находился сам поэт. Показано, что в процессе работы над романом автор использовал в качестве основного источника собственные очерки, опубликованные в газетной периодике военных лет, творчески перерабатывая их для создания художественного произведения, имеющего документально биографическую основу. На примере сопоставления очерка «Встреча с курдами», напечатанного в газете «Русское слово» в августе 1916 г., и главы романа «Генерал ревизор и его спутники» раскрываются принципы работы Городецкого прозаика с нелитературным материалом. Отдельные мотивы, предметные образы, персонажи и даже эпизоды романа создавались на основе жизненного опыта автора (реальных людей и событий). В художественном тексте Городецкий отказывается от фигуры автобиографического рассказчика и «передает» некоторым героям собственные мысли, оценки и действия, подчеркивая этим их близость к авторской позиции. Делается вывод, что газетные очерки выполняют функцию фабульного «конспекта», который в романе разворачивается, трансформируясь в различные композиционно речевые формы и обогащаясь дополнительными сюжетными элементами. Изменение идейной направленности романа по сравнению с очерками вызвано переменой в мировоззрении Городецкого, критически оценивавшего Первую мировую войну в советское время.
С.м. городецкий, первая мировая война, кавказский фронт, военный очерк, газетные публикации, литература и журналистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147767
IDR: 149147767 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-118
Текст научной статьи Газетные очерки С. М. Городецкого о Первой мировой войне как претексты романа «Сады Семирамиды»
The article considers the creative history of S.M. Gorodetsky’s unfinished novel “Gardens of Semiramis”, the events of which take place during the First World War on the territory of Western Armenia, where the poet himself was located during 1916. When creating the novel, the author used his own essays published in the newspaper periodicals of the war years as the main source, reworking them to create a work of fiction with a documentary and biographical basis. Comparing the essay “Meeting with the Kurds”, published in the newspaper “Russkoye Slovo” in August 1916, and the chapter of the novel “The Auditor General and his Companions”, we describe the principles of how Gorodetsky works with non-literary material. He created individual motifs, subject images, characters and episodes of the novel based on his own life experience (real people and events). In the literary text, Gorodetsky abandons the figure of the autobiographical narrator and “transmits” to some of the characters his own thoughts, assessments and actions, thereby emphasizing their proximity to the author’s position. It is concluded that newspaper essays perform the function of a plot “synopsis”, which unfolds in the novel, transforming into various compositional forms and enriched with additional plot elements. The change in the ideological orientation of the novel in comparison with the essays is caused by a change in the worldview of Gorodetsky, who critically assessed the First World War in Soviet times.
ey words
S.M. Gorodetsky; World War I; The Caucasian Front; military essay; newspaper publications; literature and journalism.
Роман «Сады Семирамиды» создавался С.М. Городецким на протяжении нескольких десятилетий, однако так и не был завершен. По замыслу автора, он должен был открывать собой большую трилогию, в которой Городецкий собирался отразить свои впечатления военных и революционных лет (1916–1921), проведенных им в Закавказье и Персии. Об этом поэт в 1930 г. сообщал в письме Государственному издательству художественной литературы: «С 1924 года я работаю над трилогией “Восточный эпос”. Она включает в себя три романа, размером от 10 до 12 листов каждый… Мне пришлось начать со второй части трилогии. В 1927 году я закончил роман “Алый смерч”. По теме он обнимает эпоху Февральской революции, локально взят в Персии, быт – старая армия в момент ее разложения и нарастание в ней революционных настроений. В настоящее время я работаю над первою частью трилогии “Сады Семирамиды”, обнимающей эпоху войны в Турецкой Армении и изображающей гибель этой страны в результате политики империализма, русского и европейского» [цит. по: Городецкий 1974, 214; Городецкий 1987, 565]. Последняя часть трилогии – также незавершенный роман «Черный город» – должна была освещать рево люционные собы тия в Баку, где Городецкий жил в 1919–1921 гг.
В течение жизни поэт несколько раз возвращался к написанию первой части задуманной трилогии. Об этом он упоминает и в автобиографических заметках 1942–1944 гг. («Армянские впечатления тех лет отражены в романе “Сады Семирамиды”, над которым я работаю уже много лет» [цит. по: Ени-шерлов 2001, 144]), и в более позднем очерке «Мой путь» (1958): «Я <…> уже несколько лет пишу роман “Сады Семирамиды” о гибели населения Турецкой Армении и о крушении националистических надежд тогдашних вождей этого многострадального народа, воскресшего только при Советской власти» [Городецкий 1984, 13].
В 1970 г., уже после смерти Городецкого, И.Р. Сафразбекян обнаружила в архиве поэта написанные и отредактированные главы романа, представляющие собой только часть произведения. Первые 7 глав были опубликованы исследовательницей в двух номерах журнала «Литературная Армения» (№3 и №4 за 1971 г.); остальные 5 – через 37 лет в том же периодическом издании (№1, 2008 г.). Вместе они впервые увидели свет в подготовленном Сафраз-бекян сборнике Городецкого «Последний крик» (Ереван, 2010).
Действие в «Садах Семирамиды» разворачивается осенью 1916 г. в Западной Армении и описывает события, происходящие в городе Ван и его окрестностях. Как отмечал сам Городецкий, роман основывается на его воспоминаниях о пребывании на Кавказском фронте, куда он отправился в апреле 1916 г. как представитель Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам. В Ване поэт выполнял обязанности помощника уполномоченного Ванского района: помогал восстанавливать городские службы, организовал приют для сирот, совершал рабочие поездки по области, только недавно занятой русскими войсками.
Исследователи отмечали автобиографический характер «Садов Семирамиды» [см.: Даронян 1985, 61–62], что не скрывал и сам автор. Однако обращение к претекстам романа – газетным очеркам Городецкого, созданным в период Первой мировой войны, – подтверждает документальную основу произведения. Работая над ним, поэт активно опирался на свои публицистические тексты, буквально перенося из них в роман события, пейзажи, интерьеры и даже знакомых ему людей в качестве центральных и второстепенных персонажей.
Необходимо сказать, что Городецкий отправился на Кавказский фронт не только как сотрудник Союза городов, но и как журналист – корреспондент газеты «Русское слово», на страницах которой во второй половине 1916 г. печатались его очерки о Персии и Западной Армении. Уже по долгу службы Городецкому было необходимо вести регулярные записи о своем путешествии и о работе по восстановлению разрушенного во время войны Вана, в чем поэт принимал непосредственное участие. Это подтверждают сохранившиеся в его архиве фрагменты записной книжки 1916 г., отрывок из которой опубликован в подготовленном Сафразбекян издании [Городецкий 2010, 61].
По всей видимости, путевые и дневниковые записи Городецкого также стали фактуальной основой его цикла очерков «В стране ручьев и вулканов», публиковавшихся в июле-сентябре 1917 г. в тифлисской газете «Кавказское слово», в редакции которой на тот момент работал поэт. Данный цикл описывает третье посещение Вана, совершенное Городецким осенью 1916 г. и завершившееся эвакуацией всего города.
Очерки из обеих газет имеют явные мотивно-образные переклички, что позволяет рассматривать их как определенное сверхтекстовое единство. Обращение к этим публикациям не только дает богатый материал о деятельности
Городецкого, но и раскрывает творческую историю «Садов Семирамиды», а также принципы работы автора с собственной публицистикой в процессе создания художественного произведения.
Среди героев романа – начальник Ванского округа А.И. Термен, подробный портрет которого дан Городецким в очерке «Ванский губернатор», уполномоченный Союза городов в Ване К.С. Амбарцумян, описанный в «Ванских портретах», поэт и драматург Артавазд Туманян, упомянутый в очерке «Со-горский проспект», работавший под началом Городецкого житель Вана Пах-чан (Пахчаньян), история которого рассказана в «Голубых берегах», курдский вождь Бегри-бек, фигурировавший сразу в нескольких текстах («Встреча с курдами», «Песни курдов», «Бегри-бек и курды»), а также ряд других реальных лиц, известных из газетных очерков Городецкого.
В некоторых случаях документальный характер романа помогает установить имена людей, которые в газетных публикациях были скрыты по цензурным или иным соображениям. Так, в одном из очерков Городецкий сознательно не раскрывает личность начальника Ванского отряда, саркастично называя его «генералом Тетушкиным» и обвиняя в напрасной эвакуации города: «25 июля мы очистили Битлис и 25 июля генерал Тетушкин уложил свои чемоданы и ковры. А 28 июля эвакуировал Ван. Самочинно и беспричинно. Приказ об эвакуации учреждений союза городов я получил от него в следующей юмористической форме: “Я вам приказа не отдаю, но частным образом говорю, что чем скорее вы уйдете, тем лучше”» [Городецкий 1917а]. В романе этот факт выясняется во время официальной ревизии военной канцелярии города генералом Ладогиным: «Среди бумаг никакого приказа об эвакуации Вана не обнаружено. Я установил совершенно точно, что командующий войсками генерал Воронов такого приказа не отдавал» [Городецкий 1987, 85].
В воспоминаниях 1958 г., которые, вполне возможно, создавались одновременно с романом, Городецкий также называет генерала его настоящей фамилией: «Начальником был генерал Воронов. <…> Нужен был военный приказ об эвакуации. Я поехал. Царский генерал не устоял перед моими доводами и сказал: – Приказа не дам, но чем скорей уйдете, тем лучше» [Городецкий 1974, 83]. Согласно архивным источникам Первой мировой войны, командиром Ван-ского отряда летом 1916 г. действительно являлся генерал-майор П.П. Воронов (1862–?) [см.: Хутарев-Гарнишевский 2020, 236].
В рамках статьи рассмотрим связь романа с газетными публикациями Городецкого на примере главы «Генерал-ревизор и его спутники», основным претекстом которой является очерк «Встреча с курдами» [Городецкий 1916а]. Детальное сопоставление текста художественного произведения с его нелитературным источником позволит раскрыть общие принципы работы Городецкого с биографическим и публицистическим материалом при написании романа. Интересующая нас глава описывает путешествие генерала-ревизора Ладогина вместе с спутниками из персидского города Дильман в занятый русскими войсками Ван и основывается на событиях из жизни самого Городецкого, проезжавшего этим же маршрутом вместе с реальным прототипом своего персонажа.
В начале газетного очерка поэт перечисляет всех своих спутников: «Нас было много: два Т., однофамильцы, генерал и особоуполномоченный, два помощника генерала, питомцы комнат, героически переносившие все тягости пути, известный армянский критик, автор исследования о Сологубе, Иониси-ан, красавец-гимназист Артюша, богатырь семнадцати лет, не выпускавший из рук винтовки. Все они разместились на двух фаэтонах. Верхом поехали наш телохранитель Авакянц, георгиевский кавалер, и я» (курсив здесь и далее наш. – А.Ф.) [Городецкий 1916а].
В романе система персонажей в соответствующей главе несколько иная: «Спутники, которых генерал подобрал себе за дни проволочки, были уже в сборе. На темном тонконогом жеребце, предвкушавшем вольный путь, гарцевал почти мальчик с огромными глазами, Артавазд , сын любимейшего поэта Армении. Ему не терпелось ехать так же, как и его коню. На грубой рыжей лошади бочком сидел и напевал какой-то романс студент Мосьян , ежеминутно поправляя туго набитые кишмишом и орехами хурджины. <…> Два пеших офицера и несколько казаков ждали выхода генерала» [Городецкий 1987, 43].
Как видим, в романе гимназист Артюша заменен на Артавазда, а критик Ио-нисиан – на студента Мосьяна. К такому решению автора подтолкнуло не только сходство имен. В жизни гимназист и критик оказались случайными попутчиками Городецкого – в других его текстах они не встречаются. Прототипами героев «Садов Семирамиды», напротив, являются друзья и коллеги поэта, которых он хорошо знал и часто упоминал в очерках, а также письмах и воспоминаниях, поэтому создать персонажей романа на их основе было гораздо легче.
Так, Мосьян (Мосиан) был заведующим питательным пунктом в Ване и даже работал под началом Городецкого, о чем подробно рассказано в очерке «Золотые вечера». Приведем отрывок из него, имеющий соответствие в романе:
Было в Мосиане что-то артистическое. Был у него голос. Но из-за репертуара мы много ссорились. Тут, можно сказать, ангелы по земле ходят, такая заря, а он как двинет:
«Ах, любовь <–> это тот же камин, Что печально в груди догорает»
И ничего с ним не сделаешь, пока не допоет до конца. И ничем ему не докажешь, что камину в груди не бывать, и любви на камин быть похожей невозможно [Городецкий 1917b].
Эта же сцена – вместе с цитатой из песни – использована Городецким в «Садах Семирамиды», но с той лишь разницей, что автор передает свою оценку герою Артавазду:
В хвосте кавалькады Мосьян тоже не выдержал и нестерпимым баритоном рявкнул:
Ах, любовь – это тот же камин,
Что печально в груди догорает!
– В поле вас еще можно слушать! – с улыбкой, смягчая свою мысль, сказал Артавазд. Мосьян не обиделся и продолжал петь [Городецкий 1987, 54].
Прототип этого персонажа уверенно устанавливается и без обращения к публицистике Городецкого: им является сын знаменитого армянского поэта Ованеса Туманяна Артавазд (1894–1918), или Артик, как называли его друзья и близкие (подробнее о его жизни и творчестве см.: [Ованесян 2015]). Молодой поэт и драматург, он прибыл в Ван на несколько месяцев раньше Городецкого, «получив назначение на должность полномочного представителя Кавказского комитета Союза городов» [Ованесян 2015, 75–76]. Автор «Садов Семирамиды» встретился с Артаваздом уже в Ванской области, где они вместе работали на протяжении 1916 г., однако их заочное знакомство состоялось ранее – вскоре после посещения Городецким О. Туманяна, о чем Артавазду сообщила в письме от 13 апреля 1916 г. его мать: «Завтра на обед у нас опять будут люди – благодаря Сергею Городецкому. <…> Да, главное – этот человек должен отправиться из Джульфы в Ван, месяца два должен пробыть в этих краях, так что придет к тебе и познакомится» [цит. по: Закарян 2016, 12].
В газетных очерках Городецкий упоминает его имя только однажды, описывая завершение очередного рабочего дня сотрудников Союза городов: «Много сделано за день. Сотням людей даны кров и пища. На узеньких записках стекаются цифры в контору. Кассир
Артавазд Туманьян
Спустя два года после их знакомства 23-летний поэт трагически погибнет во время отступления из Вана через территорию Персии. В статье-некрологе «Венок друзьям» (1918) Городецкий называет Артавазда «юношей-героем, работавшим для родины и отдавшим жизнь за нее» [Городецкий 1918]. По всей вероятности, поэт решил сделать погибшего друга одним из героев своего романа (которому, как можно судить по написанным главам, отводилась довольно важная роль в сюжете), в том числе чтобы сохранить память о нем. «Заканчиваю свой роман, где живет и Артавазд» [Городецкий 1974, 256], – сообщал автор в одном из поздних писем Нвард Туманян, с которой сохранил теплые отношения на долгие годы.
Не случайно Городецкий делает Артавазда наиболее близким автору героем, изображая его поэтом, обладающим творческим взглядом на окружающий мир («Певучие гласные армянского языка в свите грузных гортанных сразу стали складываться в стихи…»; «Воспоминание об отце-поэте взволновало его, и опять полетели стихи…» [Городецкий 1987, 44, 46]), а также «наделяя» юношу собственными мыслями и поступками, как в следующем примере:
-
1. Вдруг мой Курд, почуяв родные места, бросился с дороги в степь и понесся по засыхающим цветам, жадно вдыхая их смолистый запах . Я не мешал ему, стараясь не потерять из виду пыльные столбы – маяки пути. Не знаю, сколько мы носились, но это были минуты настоящего счастья . Хорошо было нестись неведомо где, наедине с природой (очерк «Встреча с курдами») [Городецкий 1916а].
-
2. Вдруг конь Артавазда бросился с дороги в степь и понесся по засыхающим цветам, жадно вдыхая их смолистый запах . Артавазд не мешал ему, стараясь только не потерять из виду столб
пыли впереди. По брюхо в траве, конь несся, раздувая ноздри и подчиняя Артавазда своему порыву. Артавазд не заметил, как потерял из виду дорогу. Он забыл о ней. Радость быть наедине с природой , в ее движении, в полете захлестнула его (роман «Сады Семирамиды») [Городецкий 1987, 54].
Здесь автор, говорящий в газетном очерке от первого лица, фактически заменяет себя героем, передавая ему и своего коня по кличке Курд, и собственное ощущение радости от свободной езды верхом, заимствуя из публицистического текста не только мотивы и образы, но и целые фразы.
В то же время нельзя сказать, что Артавазд оказывается полностью тождествен автору. Так, в романе персонажа постоянно сопровождает мотив смерти, который появляется то в размышлениях юноши о готовности пожертвовать собою ради других, то в момент испуга, когда герой понимает, что заблудился в пыли и не видит экипажа, то в разговоре сопровождающих генерала казаков, беседующих об Артавазде [Городецкий 1987, 45, 50, 54]. Этот мотив, нехарактерный для жизнерадостного образа путешествующего автора из очерков Городецкого, создает у читателя определенное ожидание по поводу дельнейшей судьбы героя, которое, вероятно, должно было подтвердиться в трагическом финале его сюжетной линии в соответствии с установкой поэта на документальность повествования.
В целом следует признать, что автор «Садов Семирамиды» подверг свои газетные очерки достаточно серьезной творческой переработке, а не просто механически включил их фрагменты в художественное повествование, поэтому прямые соответствия между текстами чаще обнаруживаются на лексическом и мотивно-образом уровнях, чем на сюжетно-композиционном. Например, даже в соседних эпизодах романа Артавазд заменяет собой разных людей из очерка: то гимназиста Артюшу (ср.: «– Бегри-бек? – в восторге подскакивает к нему Артюша. Бегри-бек, плутовато улыбаясь, повторяет свое имя» [Городецкий 1916а]; «Артавазд, жадными глазами наблюдавший курда, уже догадался. — Бегри-бек! — воскликнул он. Бегри-бек, хитро улыбаясь, повторил свое имя» [Городецкий 1987, 61]), то самого Городецкого. Последнее происходит чаще, поскольку, как было отмечено, Артавазд является наиболее близким к автору персонажем в рассматриваемой главе. Так, сразу после встречи с курдами герой воспроизводит речь и мысли поэта, ср.:
-
1. Опять что-то стихийное проснулось в моем коне. Он врывается в середину курдов. Вокруг меня загорелые дочерна лица, белые волчьи зубы , мохнатые шапки, пахнет зверем от курдов, кожей, шерстью , всеми дикими запахами. <…> впереди, хитро улыбаясь, скачет Бегри-бек. Я беру место рядом с ним и, показывая на свою лошадь, говорю:
– Курд!
-
2. Конь Артавазда, скакавший рядом с фаэтоном, почувствовал что-то родное , стрелой ворвался в ряды переднего курдского отряда. Загорелые дочерна лица, белые частые зубы , запах кожи
Он недоверчиво взглядывает на меня и тотчас замечает характерные для курдских лошадей отметины на шее. Мне кажется, что злость пролетает в глазах Бегри-бека, которую он тотчас подавляет улыбкой [Городецкий 1916а] .
и шерсти окружили Артавазда. Перестраиваясь на ходу, курды дали ему место рядом с Бегри-беком .
– Курд! – сказал ему Артавазд, показывая на свою лошадь. Бегри-бек, взглянув недоверчиво , тотчас же нашел характерные для курдских лошадей отметины на шее. Злость промелькнула в его глазах, но тотчас же расплавилась в улыбке гостеприимства [Городецкий 1987, 61].
Как видим, езду рядом с Бегри-беком и свой краткий разговор с ним автор также перепоручает герою, при этом сохраняя в художественном повествовании собственную идеологическую точку зрения, благодаря чему раскрываются хитрость и коварство курдского вождя.
Романные воплощения образов Бегри-бека и генерала оказываются более оценочными, чем их очерковые аналоги, что объясняется эволюцией мировоззрения Городецкого, которую сам поэт называл освобождением от «империалистических иллюзий» [Городецкий 1984, 13]. Так, явно проникнуто иронией навязчивое и наивное желание генерала Ладогина передать армянским сиротам подарки, которые он везет из Петрограда по поручению своей жены, не представляя, какие ужасы ему предстоит увидеть: «Найти кого-нибудь… Спасти хоть детей, чтоб раздать им подарки»; «“Кому же и где раздавать подарки?” – думал генерал» [Городецкий 1987, 49, 58]. Столь же далека от суровой реальности его мечта «построить небольшие коттеджи в английском стиле» [Городецкий 1987, 56] в тех диких и опустошенных войной местах, по которым едут герои, хотя на самом деле эта идея тоже взята из очерков Городецкого, который вполне серьезно писал, что «за Башкалой, как за многими местами Турции, – будущность мирового курорта» [Городецкий 1916a].
Курдский вождь, напротив, изображен в романе не разбойником, заискивающим перед русским генералом, как это показано в газетном очерке, а опасным и коварным противником:
-
1. Через несколько минут он (Бегри-Бек. – А.Ф .) таинственно совещается с генералом, – наверное, просит денег или оружия . Выходит с лицом недовольным и долго мнется в грязной передней этапа, к великому недовольству часового, кудрявого паренька, приставленного к денежному ящику [Городецкий 1916a].
-
2. После кофе генерал остался наедине с Бегри-беком.
– О чем они там будут говорить? – полюбопытствовал Артавазд.
– Просто будут торговаться о цене нашей жизни, – ответил Мосьян.
– А вон казак стоит на часах у фаэтона. Разве он коньяк стережет? Бисквиты? В фаэтоне есть подозрительная корзина, содержимое которой может очень пригодиться Бегри.
– С чем?
– Что вы наивничаете? С золотом ! А кроме того, Бегри, конечно, уже заметил в фаэтоне и нечто другое, более дорогое для него, чем даже золото: винтовки <…>
С нахмуренным лицом генерал вышел из кунацкой, сопровождаемый улыбающимся Бегри. Генерал отдал какое-то приказа- ние, и оба они вернулись в кунацкую. Корзину тотчас пронесли туда.
– Полегчает его корзиночка! – издевался Мосьян [Городецкий 1987, 61–62].
Если в газетном очерке курдский вождь «просит денег или оружия» у генерала, который, судя по «недовольному лицу» Бегри-бека, никак не удовлетворяет его просьбу, то в романе курд фактически заставляет Ладогина отдать золото и винтовки в качестве выкупа за свою жизнь, отчего тот выходит с «нахмуренным лицом». В такой трансформации образов можно видеть как изменение авторской позиции, так и влияние цензуры, не позволявшей высмеивать в печати военное командование (тем более в одном из самых популярных периодических изданий Российской империи). Этим же фактором объясняется различие между финальными частями двух текстов. Конец газетной публикации представляет собой краткое сообщение о нападении курдов: «Вспомнили мы о войне и на следующий день, на следующем этапе, где нам сообщили, что ночью Бегри-бек напал на соседнее селение, стольких-то зарезал, стольких-то увел в плен» [Городецкий 1916a], – здесь Городецкий-журналист не дает оценки событию, а только сжато излагает факт. Глава романа, напротив, заканчивается весьма эмоциональным эпизодом, в котором герои находят это сожженное курдами селение с телами убитых и спасают маленькую девочку, найденную в дымящихся развалинах [Городецкий 1987, 64–65].
Таким образом, сопоставление романа «Сады Семирамиды» с его газетными претекстами позволяет раскрыть документально-биографическую основу художественного произведения, а также описать процесс творческой переработки Городецким собственных путевых очерков. Отдельные сюжетные события, мотивы и образы романа создавались на основе жизненного опыта автора и имеют соответствия с реальными фактами и людьми. Отказываясь от очерковой фигуры автобиографического рассказчика в художественном тексте, Городецкий «передает» некоторым героям собственные мысли, высказывания, оценки и действия, тем самым маркируя их близость к авторской позиции. Можно сказать, что газетные очерки играют роль своеобразного монологического «конспекта», который в романе разворачивается, трансформируясь в различные композиционно-речевые формы и обогащаясь дополнительными элементами. При этом в романе автор изменяет идейно-оценочную направленность текста, что вызвано переменой в мировоззрении самого Городецкого, порвавшего со своим «верноподданническим» прошлым и ставшего советским писателем.