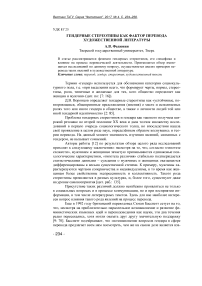Гендерные стереотипы как фактор перевода художественной литературы
Автор: Федюнин Александр Владимирович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен гендерных стереотипов, его специфика и влияние на процесс переводческой деятельности. Производится обзор имеющихся исследований по данному вопросу, осуществляется анализ примеров перевода таких явлений в художественной литературе.
Перевод, гендер, стереотип, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/146278361
IDR: 146278361 | УДК: 81'25
Текст научной статьи Гендерные стереотипы как фактор перевода художественной литературы
Термин «гендер» используется для обозначения категории социокультурного пола, т.е. «при выделении всего, что формирует черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, кого общество определяет как женщин и мужчин» (цит. по: [7: 16]).
Д.В. Воронцов определяет гендерные стереотипы как «устойчивые, повторяющиеся, общепринятые представления (мнения) о месте и исполняемых ролях того или иного гендера в обществе, а также о личности людей той или иной гендерной идентичности» [2: 85].
Проблема гендерных стереотипов и гендера как такового получила широкий резонанс во второй половине XX века и дала толчок множеству исследований в первую очередь социологического толка, но впоследствии нашла своё проявление в целом ряде наук, определённым образом коснувшись и теории перевода. На данный момент значимость изучения явлений, связанных с гендером, не вызывает сомнений.
Авторы работы [12] по результатам обзора целого ряда исследований приходят к следующему заключению: несмотря на то, что, согласно «гипотезе схожести», мужчинам и женщинам зачастую приписываются одинаковые психологические характеристики, «гипотеза различия» стабильно подтверждается статистическими данными – суждения о мужчинах и женщинах оказываются дифференцированы в весьма существенной степени. К примеру, мужчины характеризуются чертами соперничества и индивидуализма, в то время как женщинам более свойственны экспрессивность и коллективность. Такого рода стереотипы проявляются в разных культурах, и, более того, существуют даже на уровне самовосприятия [цит. раб.: 135].
Присутствие таких различий должно неизбежно проявляться не только в социальных вопросах и в процессе коммуникации, но и при восприятии информации, в том числе литературных текстов. Здесь для нас наиболее интересен вопрос влияния такого рода явлений на процесс перевода.
Еще в 1992 году британский переводовед Сюзан Басснетт сетует на то, что, несмотря на приблизительно параллельное возникновение и развитие феминистических языковых идей и переводоведения как науки, эти два течения редко пересекались, хотя могли оказать друг другу значительную поддержку [9: 70]. Басснетт подчёркивает, что «возникновение вопросов гендера в сфере перевода предлагает всем нам посмотреть, чем же на самом деле является вза- имодействие переводчика и текста источника, и какой союз между текстом источника и текстом перевода возникает в результате такого взаимодействия» [там же. Перевод наш. – А.Ф.].
Гендер как лингвистическое явление сам по себе является интересным объектом для теории перевода, даже не будучи отягощённым стереотипизацией, – различия в грамматике разных языков могут препятствовать прямому переводу текста и вынуждать переводчиков прибегать к разного рода заменам и ухищрениям, а если стереотипизация всё же имеет место, то её присутствие нередко может служить фактором возникновения переводческих ошибок. В сказках, где часто можно встретить зооморфных и гротескных персонажей, такие моменты проявляются наиболее ярко. Широко известны примеры Багиры из «Книги Джунглей» Р. Киплинга, в переводе на русский вопреки замыслу автора приобретшему женский пол, и Филина из «Винни Пуха» А. Милна, с которым произошло то же самое.
А.С. Вдовина и А.Г. Фомин, анализируя различные переводы сказки О. Уайлда «Соловей и роза», приходят к выводу, что далеко не все переводчики в полной мере справились со своей задачей именно в связи с неправильной интерпретацией гендерных стереотипов:
«… оба переводчика изменили пол героев, хотя анализ поведенческих характеристик показывает, что это было не совсем корректно: образ “Nightingale” представляется типично женским, пташка ночи напролет поет о любви и без колебаний решает отдать свою жизнь за чужое, но чистое чувство. Обычно так ведут себя женщины, полностью отдаваясь этому чувству. Напротив, “Green Lizard” и “Daisy” – образы, скорее, мужские. Характеризуя образ “Green Lizard”, автор использует эпитет “cynic” (циничный, бесстыдный) – такой гендерный стереотип приписывается обычно мужчинам» [1: 147].
Но по какой причине возникают такого рода искажения? К.И. Леонтьева, отмечая универсальность концептов маскулинности и фемининности, обращает внимание на различность механизмов их конструирования в разных культурах, что в свою очередь приводит к асимметрии культурных смыслов, передаваемых гендеромаркированными единицами языка источника и языка перевода, что иногда называется «плавающей» природой гендера [5: 133].
Однако при этом может наблюдаться не только неосознанное, но и вполне намеренное искажение текста, написанного автором противоположного (по отношению к переводчику) пола, по разного рода идеологическим причинам, что нередко приводит к модификации или даже элиминации гендеромаркированных смыслов. Такие стратегии получили название «woman-/manhandling». В качестве иллюстрации второго варианта К.И. Леонтьева приводит следующий отрывок из стихотворения К.Э. Даффи и один из его переводов:
At childhood’s end, the houses petered out
Into playing fields, the factory, allotments
Kept, like mistresses , by kneeling married men …
На окраине детства дома постепенно редеют, Уступая спортивным площадкам, фабрикам, огородам (Которые отцы семейства содержат, как женщин )…
Анализируя данный пример, исследователь приходит к выводу, что «в переводе произошла “нормализация” текста, его идеологическая “фильтрация” в полном соответствии с актуальными для переводчика-мужчины (как представителя противоположной относительно автора-женщины гендерной субкультуры) преференциями» [цит. раб.: 134-135].
Каким же образом можно избежать такого рода искажений? А.С. Сорокина в своей работе говорит об особой важности изучения психологических механизмов образования гендерных стереотипов, которые проявляются в речевом поведении мужчин и женщин и в гендерной маркированности языковых единиц, что в свою очередь наиболее заметно на лексическом уровне, особенно в личных местоимениях и словах, ассоциирующихся с концептами «женщина» и «мужчина» [8: 132]. Автор обращает внимание на то, что «для достижения эквивалентности и адекватности перевода художественного произведения необходимо создать на языке перевода текст, который обладает такой же гендерной характеристикой, что и оригинал. Выполнить поставленную задачу невозможно без использования различных переводческих трансформаций для более точной передачи смысла, заключенного в тексте оригинала» [там же].
Однако, надо полагать, что переводчик в процессе своей деятельности редко сталкивается с изолированными гендерными стереотипами, даже если брать в расчёт вездесущую «культурную асимметрию». Зачастую гендерные явления в тексте могут пересекаться с другими, например, национальнокультурными стереотипами, что безусловно осложняет процесс перевода. Приведём пример из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, сцена с избиением лошади. В качестве рассматриваемого объекта возьмём лексему «баба», явно ассоциирующуюся с концептом «женщина»:
Берут с собою одну бабу , толстую и румяную. <…>
Бабенка щёлкает орешки и посмеивается. <…>
Одна баба берёт его за руку и хочет увесть [3].
Перевод К. Гарнетт:
They hauled in a fat, rosy-cheeked woman .<…>
The woman went on cracking nuts and laughing. <…>
One woman seized him by the hand and would have taken him away... [10].
Перевод Р. Пивера и Л. Волохонской:
They take a peasant woman , fat and ruddy.<…>
The peasant woman cracks nuts and giggles. <…>
A woman takes him by the hand and tries to lead him away [11: 56].
Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, сегодня слово «баба» носит разговорно-сниженный характер и означает «женщина (обычно с оттенком пренебрежительности или фамильярного одобрения)» [4]. Разумеется, во времена Достоевского это слово не носило такого пренебрежительного оттенка и чаще всего означало «замужняя крестьянка, а также вообще женщина из простонародья» [6]. В указанном примере первые две строки относятся к одной женщине (во сне Раскольникова севшей вместе с остальными в телегу Миколки, избивающего лошадь), а третья строка - к другой женщине, которая пыталась увести Раскольникова от этой жестокой сцены. В то же время К. Гарнетт не делает лексического различия между этими двумя женщинами (как и сам автор), Р. Пивер и Л. Волохонская считают нужным дважды обозначить отношение первой из этих женщин к крестьянству, а вторую описать нейтральным «a woman» (хотя вполне очевидно, что обе женщины относятся к простонародью). В этом стремлении подчеркнуть принадлежность «плохой женщины» к крестьянству, а «хорошей женщины» – к псевдонеопределённому сословию можно усмотреть реализацию национально-культурного стереотипа о «неотёсанном русском крестьянстве», выраженном в гендерно маркированной языковой единице.
Итак, гендерные стереотипы безусловно являются сложным и неоднозначным феноменом, и их влияние на процесс перевода сложно игнорировать, особенно когда они идут бок о бок с другими видами стереотипов и прочими труднопереводимыми языковыми явлениями. Существующие труды по этой теме стремятся обозначить вектор разработки данной проблемы, и наиболее эффективным направлением исследования в этой связи видится структурирование и типологизация различных форм гендерных стереотипов в зависимости от разных критериев, в том числе исходя из их связи с другими проявлениями этого феномена.
Список литературы Гендерные стереотипы как фактор перевода художественной литературы
- Вдовина А.С., Фомин А.Г. Особенности реализации гендерного компонента в художественном переводе (на материале переводов сказок О. Уайлда)//Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2 (62). Т. 3. С. 145-148.
- Воронцов Д.В. Гендерная социализация//Гендерная психология: хрестоматия/сост. Е.Е. Ли. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. С. 83-87.
- Достоевский Ф.М. Преступление и наказание /URL: http://www.ilibrary.ru/text/69/index.html (дата обращения: 06.10.2017).
- Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-cловообразовательный /URL: https://www.efremova.info/word/baba.html (дата обращения: 06.10.2017).
- Леонтьева К.И. Художественный перевод и гендер: адаптация в формате «woman-/manhandling»//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 7 (18). Часть 1. С. 133-135.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка /URL: http://ozhegov.info/slovar/?q=Б* (дата обращения: 06.10.2017).
- Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы в системе исторических наук//Женщина. Гендер. Культура. М.: МЦГИ, 1999. С. 15-34.
- Сорокина А.С. Особенности перевода художественного произведения с учетом гендерного аспекта//Вестник Международного института рынка. 2016. № 2. С. 130-135.
- Bassnett, S. Writing in No Man's Land: Questions of Gender and Translation//Ilha Do Desterro. 1992. № 28. Pp. 63-73.
- Dostoevsky F. Crime and Punishment. Transl. by C. Garnett /URL: http://www.gutenberg.org/files/2554/2554-h/2554-h.htm (accessed at: 06.10.2017).
- Dostoevsky F. Crime and Punishment. Transl. by R. Pevear and L. Volokhonsky. New York: Vintage Books, a division of Random House, Inc., 1993. 565 p.
- Sczesny S., Bosak J., Diekman A. B., Twenge J. M. Dynamics of Sex-Role Stereotypes//Stereotype dynamics: Language based approaches to the formation, maintenance and transformation of stereotypes/Ed. by Y. Kashima et al.. New York-London: Lawrence Erlbaum Associates, 2008. Pp. 135-161.