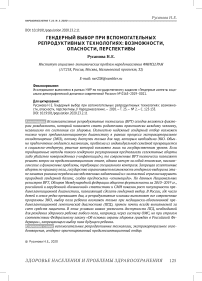Гендерный выбор при вспомогательных репродуктивных технологиях: возможности, опасности, перспективы
Автор: Русанова Нина Евгеньевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Здоровье населения и проблемы здравоохранения
Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.
Бесплатный доступ
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) сегодня являются фактором рождаемости, который позволяет стать родителями практически каждому человеку, независимо от состояния его здоровья. Полностью надежный гендерный отбор возможен только через предимплантационную диагностику в рамках процесса экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), потому доступен только для пар, которым необходимо ЭКО. Обычно предпочтение отдается мальчикам, проблема из индивидуальной семейной превращается в социально-гендерную, решение которой возможно лишь на государственном уровне. Если традиционные методы такого гендерного регулирования предполагали селективные аборты либо убийство новорожденных («инфантицид»), то современные ВРТ технически позволяют решить вопрос на предимплантационном этапе, однако влекут за собой этические, психологические и финансовые проблемы, требующие специального контроля. Запрещая селективные аборты по признаку пола, государство ограничивает возможность гендерного выбора на этапе зачатия рисками передачи наследственных заболеваний из-за опасений серьезно нарушить природный гендерный баланс, создав предпосылки «геномоцида». По данным Национальных регистров ВРТ, Обзоров Международной федерации обществ фертильности за 2010-2019 гг., российской и зарубежной «больничной» статистики и СМИ показан рост популярности предимплантационной диагностики, позволяющей сделать гендерный выбор. В России, где число детей в семье редко превышает два, а репродуктивные клиники выполняют все современные программы ЭКО, выбор пола ребенка возможен только при медицински-обоснованной предимплантационной генетической диагностике (ПГД), причем почти всегда выполняемой за счет средств пациента. В этих условиях важно увеличить доступность ПГД, необходимой для рождения здорового ребенка любого пола, например, через систему ОМС, но при строгом соответствии Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», запрещающего выбор пола будущего ребенка.
Вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение, гендерно-ориентированный предимплантационный отбор
Короткий адрес: https://sciup.org/143173642
IDR: 143173642 | DOI: 10.19181/population.2020.23.2.11
Текст научной статьи Гендерный выбор при вспомогательных репродуктивных технологиях: возможности, опасности, перспективы
Гендерные нормы, роли и отношения могут воздействовать на состояние здоровья и влиять на достижение психического, физического и социального благополучия. Разрабатываемые с учетом гендерного аспекта программы здравоохранения положительно сказываются на мужчинах, женщинах, мальчиках и девочках [1]. Отдельным вопросом являются гендерные аспекты репродуктивного здоровья, то есть состояния физического, психического и социального благополучия во всех аспектах, связанных с появлением потомства. Это означает, что люди могут вести безопасную и полноценную сексуальную жизнь, свободно решать, когда и сколько они хотят иметь детей, иметь гарантированный доступ к информации и возможность использования различных методов планирования семьи и эффективных репродуктивных технологий.
ВРТ сегодня являются фактором рождаемости, который позволяет стать родителями практически каждому человеку, независимо от состояния его здоровья. Возникнув в 1978 г. как помощь при лечении одной из разновидностей бесплодия, к настоящему времени они стали также услугой, спрос на которую предъявляют люди, не имеющие медицинских показаний. В последние десятилетия ВРТ широко обсуждаются в социальном пространстве из-за уникальных, но противоречивых возможностей влияния на количество и качество населения. Надежный гендерный отбор возможен только через предимплантационную диагностику в рамках процесса ЭКО, потому доступен только для пар, которым необходимо ЭКО. Обычно предпочтение отдается мальчикам, что объясняется неблагоприятным статусом женщин в обществе, уходящем корнями в многовековую историю социально-экономического доминирования мужчин. Если традиционные методы такого гендерного регулирования предполагали селективные аборты либо убийство новорожденных («ин- фантицид»), то современные ВРТ позволяют решить вопрос на предимпланта-ционном этапе, однако влекут за собой этические, психологические и финансовые проблемы, требующие специального контроля. Рассмотрению этих вопросов посвящена данная статья.
История вопроса
Основным репрезентативным источником информации о ВРТ в мире являются Национальные регистры ВРТ, составляемые по единым для всех стран правилам, Обзоры Международной федерации обществ фертильности (International Federation of Fertility Societies Surveillance (IFFS)), проводимые каждые три года, Европейские мониторинги ВРТ, осуществляемые для Европейского общества эмбриологии и репродукции человека (The European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)). В исследовании используются также материалы статистики отдельных российских и зарубежных медицинских учреждений, опубликованные в СМИ.
Стремление повлиять на пол потомства у населения фиксируют уже самые древние источники, причем приоритетом в большинстве случаев считались мальчики как будущие защитники и добытчики. И сегодня кажется парадоксом, что экономически развитые страны по своим репродуктивным обычаям ближе к «естественному» идеалу моногамии, чем многие живущие «ближе к природе» племена, причем в обществах, которым в силу брачных норм нужно больше женщин, чем мужчин, родители чаще хотели бы иметь сыновей, чем дочерей. Обратная тенденция встречается реже и объясняется, чаще всего, желанием иметь большую семью (Испания, Исландия) [2]. Вопреки распространенному мнению, что половой дисбаланс больше всего затрагивает бедные консервативные страны, гендерно-ориентированный выбор пола ребенка до сих актуален по разным причинам в Китае,
Индии, некоторых балканских странах и среди иммигрантского населения Западной Европы [3].
Самым простым способом пренатального полового отбора остается селективный аборт («гендерцид»), доступность которого облегчается обязательным сегодня ультразвуковым обследованием беременных, позволяющим узнать пол эмбриона в первые недели беременности. Часто это происходит в семьях, где все дети одного пола (обычно две девочки), и женщина беременна ребенком того же пола [4; 5]. Несмотря на официальный запрет, «гендер-цид» сохраняется из-за пробелов в законодательстве и национальных демографических традиций, что в итоге приводит к нарушению нормального соотношения полов при рождении, которое вместо 102-106 мужчин на 100 женщин в некоторых регионах достигает 120-130/100 (Южная Корея, Китай, Индия). Если такая перспектива станет реальностью, то гендерный дисбаланс и все вызванные им социально-экономические и демографические проблемы будут ощущаться еще сильнее [6].
К настоящему времени разработаны еще несколько методов выбора пола ребенка, среди которых наиболее популярны «фильтрация» мужских половых клеток, ПГД и «микросортирование». Они применяются в процессе ЭКО, различаются по стоимости, сложности и эффективности, но имеют общие этические ограничения. Наименее затратной и простой является фильтрация, эффективность которой достигает 75% для мальчиков и 85% для девочек, выше показатели у дорогостоящего микросортирования — соответственно, 80% и 90%, и у ПГД (99%) [7], изначально разработанной для выявления генетических заболеваний, связанных с биологическим полом (например, гемофилии и мышечной дистрофии у мальчиков). Использование этих методов лишь по социальным требованиям [8] противоречит современной биоэтике, поэтому во многих странах были введены соответствующие законодательные ограничения.
Современное состояние проблемы
Динамика применения методов пре-димплантационного гендерного отбора показывает тенденцию к росту их популярности — до 2010 г. они вообще не учитывались в международных обзорах и национальных регистрах, в 2016 г. упоминалось четыре метода, причем разрешенных лишь в 40% стран. Несмотря на высокую стоимость, выбор в пользу, например, ПГД не зависит от среднедушевых доходов: в США нет запретов на выбор пола ребенка в процессе ЭКО, а в Англии это возможно только при риске передачи генетических заболеваний, связанных с биологическим полом. Нет и религиозных предпочтений: 34,6% стран исповедуют ислам, 53,8% — христианство, 11,6% — другие религии. Отбор по половому признаку набирает популярность в городах быстро развивающихся стран, причем первой его начинает элита: многие состоятельные родители готовы «платить десятки тысяч долларов, чтобы выбрать пол в ходе оплодотворения в пробирке» [9].
К 2019 г. тенденция не изменилась, гендерный отбор мог быть проведен как в процессе селективной редукции при многоплодной беременности (9%), так и после ПГД (38% во время ЭКО/ИКСИ), но только при соответствующих показаниях. 61% стран, в основном, европейских, в том числе и Россия, допускают селективную редукцию плода, 22% стран, преимущественно южноамериканских — нет, а 36% стран, разрешающих селективную редукцию, допускают ее только при определенных условиях. В 55% стран разработаны федеральные или национальные нормативные акты, регулирующие такую практику, в 34% — отраслевые профессиональные руководства, а 8,5% стран дополняют государственное управление культурными и религиозными традициями. Все методы полового отбора доступны в репродуктивных центрах любой величины и формы собственности, даже у индивидуально практикующих специалистов, но в Китае это возможно только в специали- зированной больнице или университетской клинике.
Активнее всего гендерно-ориентированная ПГД применяется в Европе, в Южной Америке многие страны вообще не практикуют ее, в Китае, Германии, Великобритании, Канаде запрещают на общегосударственном уровне, а в Израиле семейная пара с четырьмя и более однополыми детьми может получить даже разрешение на ПГД за счет государства [10]. Однако такое субсидирование не является правилом, поскольку ПГД до сих пор трактуется как экспериментальная процедура и покрывается системой медицинского страхования лишь в исключительных случаях. Растущий спрос на немедицинскую ПГД расширяется за счет репродуктивно здоровых пар-носителей риска наследственной передачи генетических нарушений, одни из которых уже имели пораженное потомство и неохотно рассматривают возможность новой беременности без ПГД, а другие отказываются даже от попытки забеременеть без ПГД, гарантирующей хоть какое-то снижение вероятности передачи наследственных заболеваний [11].
Единого мнения по допустимости гендерно-ориентированной ПГД нет. ESHRE в 2013 г. рекомендовало в Европе использовать ПГД для избегания сцепленных с полом наследственных заболеваний, но не разработало четких рекомендаций в случаях, например, когда все дети в семье однополые. Американское общество репродуктивной медицины (American Society for Reproductive Medicine — ASRM) разрешило проводить ПГД для выбора пола, чтобы поддержать гендерное равновесие детей в семье, поскольку федеральные законы США не запрещают это. Примерно 40% американских репродуктивных клиник предлагают такие услуги и рекламируют их, привлекая репродуктивных туристов со всего мира [12].
Обычно ПГД применяют, повышая шансы родить мальчика-первенца — в США таких до 80% пар, что связано с религиозными обычаями, наследственны- ми и финансовыми правами. Целью может быть также контроль общей численности и половой структуры населения — в 1970-х гг. считалось, что гендерно-ориентированный отбор поможет Индии прекратить рождения «ненужных» девочек, продолжающиеся до появления на свет мальчика: 96% женщин, определивших пол ребенка во время беременности, прервали ее, если была девочка, но все сохранили мальчиков. В 1991 г. индийская перепись населения показала значительный гендерный дисбаланс, и в 1994 г. пренатальные методы гендерного отбора запретили; в 2003 г. запрет распространился на ВРТ [2]. Хотя в некоторых странах мужская доминанта постепенно заменяется женской, делая рождение девочек более желанным [13], за последнее десятилетие в мире произошло двукратное увеличение численности мужского населения [6, 14, 15], что может усилить сексистские настроения.
После 2016 г. медицински-обосно-ванная ПГД все чаще включается в программы ВРТ — в 2019 г. она отмечалась в 43% обследованных стран, тогда как в 2016 г.— в 34%. Главными недостатками остаются высокая стоимость и относительно низкая рождаемость даже среди репродуктивно здоровых женщин из-за ограниченного числа эмбрионов, доступных для ЭКО [10]. При этом абсолютная безвредность ПГД еще не доказана, так как есть вероятность мутаций в генах ребенка и изменение сексуальных стереотипов [16].
Социально-экономические причины и последствия предимплантационного гендерного выбора
Современные исследования свидетельствует о более широком признании и эффективности полового отбора по целому ряду культурных и экономических причин в таких разных странах, как Южная Корея, Украина и Вьетнам. Часто родители одного ребенка хотят, чтобы второй был противоположного пола из-за культурных традиций, социальных причин или экономических намерений (например, необходимость наследования бизнеса). Возможны также определенные гендерные предубеждения, особенно при бесплодии женщин в традиционных расширенных семьях с сильным влиянием совместно проживающих родственников — здесь через рождение сына женщина обретает определенный статус и власть [17]. Появились понятия «семейное равновесие»: выбор пола будущего ребенка в зависимости от пола детей в семье, и «гендерное разочарование»: официально непризнанное медициной состояние, которое женщины описывают как изнуряющую депрессию, вызванную чувством вины. С ним приходится сталкиваться в странах, где гендерный отбор без медицинских показаний законодательно запрещен, но отраслевые руководящие органы могут сделать исключение для конкретного случая, если по каким-то причинам родительская пара не может поехать в страну, разрешающую выбор пола при ЭКО, и потому настаивает на индивидуальном решении вопроса.
Кроме социальных, существуют психологические и эмоциональные последствия гендерного отбора, поскольку родители, сознательно выбирая пол ребенка, часто завышают свои ожидания. В ответ на такие запросы частные медицинские учреждения предоставляют соответствующие услуги в рамках «репродуктивной свободы»: например, ASRM не поощряет ПГД с немедицинскими целями, но признает ее как репродуктивное право, защищенное американской конституцией, 92% из 493 репродуктивных клиник США практикуют гендерно-ориентированную ПГД, 94% — готовы провести ее для достижения гендерного баланса семьи, 82% — для удовлетворения личных предпочтений, а 84% — вообще не связывает ПГД с бесплодием [8].
Профессиональные мнения о целесообразности гендерной селекции по немедицинским причинам неоднозначны, у многих экспертов сама мысль о выбо- ре будущих детей с заданными характеристиками вызывает опасения, а целью репродуктивных центров обычно является рождение здорового ребенка независимо от его пола. Это обусловило принятие Советом Европы «Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины» («Конвенции о правах человека и биомедицине») в 1997 г., не допускающей «использование вспомогательных медицинских технологий деторождения в целях выбора пола будущего ребенка, кроме случаев предотвращения наследования заболевания, связанного с полом» [18].
Хотя намерение иметь мальчика коренится в социальных, экономических и культурных ценностях, а пренебрежительное отношение к жене, производящей на свет только девочек, и к самим девочкам, основано на родоплеменных обычаях, гендерно-ориентированный пренатальный и предимплантационный отбор достигает значимого уровня лишь в странах с малодетностью, сильными гендерными предпочтениями и доступной ПГД. Поэтому Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Фонд ООН в области народонаселения, Детский фонд ООН, Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и ВОЗ подготовили заявление «Предотвращение гендерно-обусловленного выбора пола» [19], подтверждающее приверженность ООН поощрению усилий государств, международных и национальных организаций, гражданского общества и объединений по защите прав девочек и женщин, решению проявлений дискриминации по признаку пола, включая проблему гендерного дисбаланса, вызванного сознательным выбором пола ребенка.
Одна из целей семейной политики — поддержание социального порядка и демографического развития. В индустриальную эпоху большие семьи перестали быть нормой, а в постиндустриальную идеальным решением стала нуклеарная семья — хозяйственные компоненты совместного проживания минимизировались, фокус внимания сместился с детей на отношения между партнерами. Семья стала «взрослоцентричной»: родители готовы переехать в другой город ради карьеры, без учета интересов ребенка, могут развестись, так как воспитать ребенка в одиночку становится экономически возможным. Становятся допустимыми гостевой брак, «открытые» семейные отношения, жизнь с партнером своего пола. Стремление к гендерному равенству, новые ценности, стирание границ личного и рабочего пространства меняет требования к выбору уже не только числа и времени рождения детей, но и их пола. В социальных сетях формируется мода на публичное объявление пола ребенка — «Gender Reveal Party» («Вечеринка гендерных открытий»), событие, которое заранее планируется, снимается на фото-видео и выкладывается в YouTube, Facebook, Instagram и других интернет-сервисах. Некоторые исследователи видят здесь тревожный гендерный подтекст, рассматривая такие мероприятия не только как проявление бинарности гендерной системы, но и как аксиому о неизменности пола, данного при рождении, обостряющую существующие социальные проблемы 1.
Ситуация в России
Регулирование гендерных аспектов вспомогательной репродукции в России соответствует рекомендациям «Конвенции о правах человека и биомедицине» и на федеральном уровне контролируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом »2. ПГД по
POPULATION. VOL. 23. No. 2. 2020 медицинским показаниям помогает предотвратить рождение детей с генетическими нарушениями, дает определенную гарантию парам, которые не рискнули бы иметь детей из-за многих видов неинфекционных заболеваний, дегенеративных возрастных расстройств, некоторых психических отклонений и даже аутизма, но такой широкий спектр разрешенных причин может скрывать гендерные предпочтения. Так, в Республике Дагестан при начале практики определения генетического набора будущего ребенка оказалось, что лишь 1/3 пар действительно хотели выяснить вероятность хромосомных аномалий, а остальные просто желали узнать пол ребенка [20].
Репродуктивно здоровые пары, которым не рекомендовано ЭКО, официально не имеют права на гендерный отбор, а ЭКО как технически сложная и дорогостоящая процедура не показана в случаях, когда единственной целью является выбор пола. В некоторых видах ПГД при ЭКО цена превышает среднюю по стране из-за дорогого оборудования и реактивов для проведения анализов. Поэтому в России это можно сделать только в рамках медицински-обоснованной генетической диагностики, имеющей тенденции к росту (табл. 1). В 2017 г. ПГД проводилась в 6212 циклах (2016–5222 цикла), беременность наступила в 1429 (46,5%) случаях (2016 г.— 43,7%), родами в срок 22 недели и больше завершилось 984 (80,6%) беременностей (2016 г.— 82,2%)3. Такие показатели свидетельствуют о хорошей результативности ПГД: число циклов с ПГД увеличилось почти в шесть раз, а число родов — более чем в 8 раз. Можно предположить, что родившиеся после ПГД дети не увеличивают число врожденных нарушений здоровья, приводящих к пожизненной инвалидности.
сийской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, ст. 55, п. 4. [Электронный ресурс]— Режим доступа: http://www. (дата обращения 31.03.2020).
Таблица 1
Динамика преимплантационного генетического тестирования в России
Table 1
Dynamics of pre-implantation genetic testing in Russia
|
Показатель |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|
Всего цик лов, единиц |
1085 |
2023 |
3344 |
5222 |
6212 |
|
В% к 2013 году |
100,0 |
186,5 |
308,2 |
481,3 |
572,5 |
|
Всего родов, единиц |
117 |
358 |
579 |
878 |
984 |
|
В% к 2013 году |
100,0 |
306,0 |
494,9 |
750,4 |
841,0 |
Источник: рассчитано автором по [3].
Учитывая высокую потребность и эффективность ПГД по медицинским показаниям, разработана Федеральная программа бесплатного протокола ЭКО с ПГД по ОМС4. Дополнительную возможность дает криоконсервация эмбрионов, имеющих разный пол, среди которых можно будет выбрать нужный при будущем переносе, но это доступно только при проведении ЭКО. В рамках развития новой модели системы здравоохранения в России предлагаются различные направления решения правовых проблем генетической диагностики, в том числе, предимпланта-ционной и пренатальной. Во многих странах, например, в Великобритании, Франции, Германии, расходы на ПГД компенсируются через систему ОМС [21. С. 95]. Если включение ПГД по медицинским показаниям в российскую систему ОМС вполне реально при сопоставлении затрат на пожизненное содержание детей с наследственными генетическими патологиями, то ПГД по ОМС для выбора пола ребенка просто по желанию родителей остается под вопросом по крайней мере до тех пор, пока «гендерное разочарование» не будет признано официальной медицинской или социальной причиной. Расширение доступности здесь не только увеличивает риск существенного нарушения природного разнообразия человека как вида, но и противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ о равноправии граждан [22. С. 22]. Анализ
4 Регистр бесплодных пар России, нуждающихся в лечении методом ЭКО. [Электронный ресурс]— Режим доступа: (дата обращения 31.03.2020).
опросов, блогов и интернет-форумов свидетельствует о том, что проблема гендерного выбора постепенно начинает терять свою остроту, и будущие родители обращают на нее внимание только при наследственных рисках, о чем говорит, в частности, появление в России «вечеринок гендерных открытий» [23].
Заключение
Несмотря на популяризацию гендерного равенства, во многих странах один пол до сих пор не считается равным, а мужчины и женщины остаются заложниками своих гендерных ролей и стереотипов. Проблема «девочка или мальчик» из семейной превращается в социально-гендерную, решение которой возможно лишь на государственном уровне. Запрещая селективные аборты по признаку пола, государство оставляет возможность гендерного выбора на этапе зачатия, однако ограничивает его рисками передачи наследственных заболеваний из-за опасений серьезно нарушить природный гендерный баланс, создав предпосылки «геномоцида». Хотя не все страны осуществляют такой выбор на практике, ВРТ благодаря предимпланта-ционной диагностике делают его все более распространенным, расширяя круг показаний. В России, где в большинстве семей менее двух детей, а репродуктивные клиники выполняют все современные программы ЭКО, выбор пола ребенка возможен только при медицински-обосно-ванной ПГД, причем почти всегда выполняемой за счет средств пациента. В этих условиях важно увеличить доступность
ПГД, необходимой для рождения здорового ребенка любого пола, например, включив его в систему ОМС, что повышает важность контроля за соответствием меди- цинских рекомендаций Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
Список литературы Гендерный выбор при вспомогательных репродуктивных технологиях: возможности, опасности, перспективы
- Гендер // Информационный бюллетень ВОЗ № 403. Август 2015 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/ru/ (дата обращения 12.03.2020).
- Липкин С.М., Луома Дж. Время генома. Как генетические технологии меняют наш мир и что это значит для нас. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018.— 298 с.
- Селективные аборты по половому признаку имеют дискриминационный характер и должны быть запрещены. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.coe.int/ru/web/ commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1 (дата обращения 22.03.2020).
- Гарибян Р. Нерожденные девочки Южного Кавказа. // Информационный центр Джавахети. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://jnews.ge/?p=9157 (дата обращения 12.11.2019).
- Prabhat Jha, Kesler M. A., Kumar R. et al. Trends in selective abortions of girls in India: analysis of nationally representative birth histories from 1990 to 2005 and census data from 1991 to 2011. The Lancet-Elsevier. 24 May 2011.
- Bongaarts J., Guilmoto C. Z. How many more missing women? Excess female mortality and prenatal sex selection, 1970-2050. Popul Dev Rev. 2015. No. 41(2). P. 241-269.
- International Federation of Fertility Societies Surveillance 2010: preface. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.infertilitynetwork.org/files/ IFFS_Surveillance_ 2010.pdf (дата обращения 22.03.2020).
- Capelouto S.M., Archer S.R., Morris J.R. et al. Sex selection for non-medical indications: a survey of current pre-implantation genetic screening practices among U.S. ART clinics. J Assist Reprod Genet. 2018. No. 35(3). P. 409-416.
- Клевцова А. Отбор детей по половому признаку может стать угрозой // Радио Азаттык. 01.04.2013. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/sex-selection-crisis-in-south-caucasus-and-balkans/24942555.html (дата обращения 22.03.2020).
- International Federation of Fertility Societies' Surveillance (IFFS). Global Trends in Reproductive Policy and Practice. Global Reproductive Health. Wolters Kluwer. March 2019. Vol. 4. Is. 1. P. 29. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://journals.lww.com/grh/FullText/ 2019/03000/ International_Federation_of_Fertility_Societies_3.aspx(дата обращения 22.03.2020).
- Geraedts J, Sermon K. Preimplantation genetic screening 2.0: the theory. Mol Hum Reprod. 2016. No. 22(8). P. 839-844.
- IFFS Surveillance 2016. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://journals. lww.com/grh/ FullText/2016/09000/IFFS_Surveillance_2016.1.aspx (дата обращения 22.03.2020).
- Evans M.I., Andriole S., Britt D. W. Fetal Reduction: 25 Years' Experience. Fetal Diagn Ther. 2014. No. 35(2). P. 69-82.
- King L., Michael M. No country for young girls: market reforms, gender roles and prenatal sex selection in post- Soviet Ukraine. J Polit Econ Res Inst. Working paper series. 2016. No. 425. P. 1-29.
- Den Boer A., Hudson V. Patrilineality, son preference, and sex selection in South Korea and Vietnam. Popul Dev Rev. 2017. No. 43(1). P. 119-147.
- Борисова О. PGD: пол ребенку выберут родители! // Медикфорум. 29.04.2011. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.medikforum.ru/health/7621-pgd-pol-rebenku-vyberut-roditeli.html (дата обращения 28.03.2020).
- Goknar M. D. Achieving Procreation. Childlessness and IVF in Turkey. Fertility, reproduction and sexuality. Vol. 29. Oxford. Berghahn Books. 2015. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.medanthro.ru/?page_id=2749 (дата обращения 28.03.2020).
- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://rm.coe.int/168007cf98 (дата обращения 22.03.2020).
- Preventing gender-based sex selection. An interagency statement OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.who.int/ reproductivehealth/publications/gender_rights/9789241501460/en/ (дата обращения 22.03.2020).
- Гаджиева А. Гендерная селекция по-дагестански. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://daptar.ru/2014/02/07/ (дата обращения 28.03.2020).
- Романовский Г.Б. Правовое регулирование генетических исследований в России и за рубежом // Lex russica.— 2016.— № 7. — С. 93-102.
- Захарова Е.Ю. Программы массового скрининга: технические, социальные и этические вопросы // Медицинская генетика. — 2006. — № . 3. — С. 21-23.
- Дерова А. Амурчане начали праздновать день определения пола будущего ребенка. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ampravda.ru/2018/09/20/084398.html (дата обращения 28.03.2020).