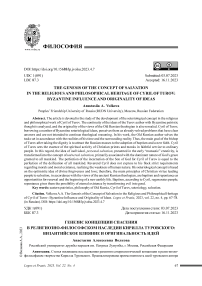Генезис концепции спасения в религиозно-философском наследии Кирилла Туровского: византийское влияние и оригинальность идей
Автор: Волкова А.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию развития сотериологической концепции в религиозно-философском творчестве Кирилла Туровского. Проанализирована преемственность идей туровского автора с византийской святоотеческой мыслью, а также выявлено своеобразие взглядов древнерусского богослова. Кирилл Туровский, заимствуя ряд византийских сотериологических идей, воспринимает их как уже решенные проблемы, имеющие четкие ответы и не призванные продолжать богословские рассуждения. В своем творчестве древнерусский автор решает задачи, поставленные в соответствии с реалиями своего времени и окружающей действительности. Так, основной целью туровского епископа после принятия сана становится привлечение русских народных масс к принятию крещения и новой веры. В верном служении простым людям видит Кирилл Туровский суть духовной деятельности христианских священников и монахов. В связи с этим, идея индивидуального, личностного спасения, представленная в раннем «монашеском» творчестве, трансформируется в концепцию универсального спасения, в первую очередь сопряженного с доминантой Божьей благодати, дарованной всему человечеству. Совершенство вочеловечивания Сына Божия для Кирилла Туровского равно совершенству обожения всего человечества. Преподобный Кирилл не предъявляет к своей пастве жестких требований относительно морально-нравственного бытия, осознавая слабость человеческого естества. В основе его сотериологической концепции лежит оптимистическое представление о божественном всепрощении и любви, поэтому основными принципами христианской добродетели, ведущей человека к спасению, в соответствии с взглядами древнерусского богослова, выступают крещение и раскаяние как возможности обновления и начала новой земной жизни. Крещение, по мнению Кирилла, возрождает человека, покаяние перерождает в нем зло в добро, даря возможность вечного бытия.
Восточная патристика, философия древней руси, кирилл туровский, сотериолоrия, спасение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145077
IDR: 149145077 | УДК: 1(091) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.4.7
Текст научной статьи Генезис концепции спасения в религиозно-философском наследии Кирилла Туровского: византийское влияние и оригинальность идей
DOI:
Цитирование. Волкова А. А. Генезис концепции спасения в религиозно-философском наследии Кирилла Туровского: византийское влияние и оригинальность идей // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 4. – С. 67–78. – DOI:
Кирилл Туровский – выдающийся древнерусский мыслитель и популяризатор христианского вероучения, обладающий живым умом и широкой эрудицией, искусно владеющий словом, отличающийся любовью к просвещению и заботой о его развитии. Недаром он снискал себе славу «русского Златоуста»: во многих трудах автора можно найти отпечатки византийского влияния, отраженные как в многообразии литературных приемов, так и во внутреннем содержании его работ [Колесов 2016, 12; Левшун 1992, 6]. Форма и стиль произведений Кирилла явно соотносились с пышностью и благолепием византийского церковного ритуала и его словесным выражением. Философия автора, уникальная по своей сути, не имеет аналогов и далека от схоластического рационализма европейской философии эпохи Средневековья. Богословский и художественный талант Кирилла Туровского проявился в способности доступной передачи наследия византийской Церкви и своих философских размышлений, синтезируемых с яркими поэтическими образами [Виноградов 1915, 115; Баранкова 2017, 81].
Жизнь и развитие творчества Кирилла Туровского пришлось на сложный в политическом и социальном плане период истории Киевской Руси. В эпоху «двоеверия» XII в.
языческие воззрения оставались господствующими среди населения, что подтверждают многие исследователи [Романов 2022, 152; Рыбаков 2021, 334; Новосельцев и др. 1965, 278; Мильков 1989]. Церковь еще не завоевала абсолютное большинство своих приверженцев, при этом аскетическая христианская традиция как элитарная религия монашествующих отрицательно влияла на общий процесс христианизации Руси, что приводило к серьезному кризису христианского учения на древнерусской почве в XII столетии. Нарочитый мистицизм преподнесения религиозных постулатов, проповедование спасения только для монашествующих, церковное стяжание (включая земле- и холоповладе-ние), внутрицерковная борьба за власть и активное участие церкви в политической жизни (включая княжеские усобицы) [Греков 2012, 255; Рыбаков 2021, 376] – по понятным причинам не внушали простому народу ни доверия, ни симпатии к новой религии. Так сам Кирилл Туровский описывает реальное отношение к монахам даже белого духовенства в древнерусском обществе своего времени: «А послhдняя нищеты житье – сирhчь от бhлоризець осуженье, досады и укоризны, хулы и посмhси, опытаниа, не бо тако мнять, яко Богу работающа мнихы, но акы прелестникы и свою погублеша душю» [Повесть Кирилла 1956, 350].
Сохраняя и поддерживая пропасть между мирским и божественным, церковники сужали общечеловеческое значение Христа до иноческого божества [Замалеев 1987, 151]. Однако княжеская и церковная власть в условиях жесточайшей феодальной раздробленности и постоянной внешней военной угрозы осознавала необходимый политический шаг, предпринятый Владимиром Святославичем, по введению монотеизма на Руси для обоснования и поддержки централизации русских земель – идеей единобожия и самодержавия проникнуты все произведения той эпохи. В связи с вышесказанным основной идеологической задачей в середине XII в. становится распространение и популяризатор-ство христианства как общечеловеческого вероучения, привлечение паствы за счет понятного толкования его канонов [Романов 2022, 150–158; Мильков 2016; Замалеев 1987, 152]. Именно поэтому особенно актуальной становится задача трансляции сотериологи-ческой христианской концепции, которая в противоположность языческим воззрениям и реальной действительности, дарила человечеству надежду на спасение и воскресение.
В противовес мистико-аскетической печерской традиции возникают произведения, унаследовавшие и развивающие идеи и методы митрополита Илариона. Как отмечает Н.К. Никольский, раннее русское христианство, в отличие от преобладающего в Византии мрачно-аскетического настроения, имело возвышенный и оптимистический характер [Никольский 1913]. Для Илариона и его преемников Господь всемогущ и всесилен настолько, что прощает возможные человеческие слабости доверившимся и полюбившим его [Мильков 2019]. Оттого восприятие и мира небесного, и мира земного у Илариона радостно и полно оптимизма. Одним из ярчайших мыслителей, унаследовавших идеи первого русского митрополита, выступает Кирилл Туровский.
Одной из основных концепций Илариона, детерминированных преподобных Кириллом, является идея богоизбранности русского народа. В работах туровского книжника мы находим классическое для древнерусской лите- ратуры противопоставление христианства язычеству 2, однако идолопоклонческое прошлое русских с точки зрения развития признается положительным обстоятельством, позволяющим обрести новую правильную веру, а через нее и вечную жизнь 3: «Прекрасно свидетельство народное, которому поверили язычники и признали во Христе Сына Божия; ибо среди иудеев Христос сотворил чудеса, а язычникам даровал благодать спасения: иудеи явили Христа, а язычники приняли Его; Израиль отрекся от Того, Кто призывал Его в вечную жизнь, и Христос ввел в Царство Небесное уверовавших язычников; – и был иудеям на падение и соблазн, а чужестранцам на восстание чрез веру» (здесь и далее в цитатах курсив авт. – А. В.) [Слово в неделю Цветоносную 1821, 1-2] .
Генезис идейных воззрений Кирилла Туровского
Творчество преподобного Кирилла условно можно разделить на два периода: «столпнический» и «епископский» [Замале-ев 1987, 152; Златоструй 1990, 190–213], первый из которых характеризуется преобладанием аскетических воззрений. Здесь прослеживается влияние афоно-печерской традиции, основной «элитарной» идеей которой выступает представление о том, что единственным путем спасения является аскеза и монашество. На этом этапе Кирилл транслирует жесткую мысль о том, что живущие в миру не наследуют божьего царства, ведь все «мирское» становится синонимом греха, отягощения страстями и пороками. Единственным способом обожения выступает смиренная жизнь в монастыре и суровый аскетизм. В «Повести о бельцах и монашестве» древнерусский автор отмечает, что житейские мысли, сопровождающие человека в мирской жизни, препятствуют спасению, так как сбивают ум с толку, не дают познать ему мудрость и смысл жизни, отвлекают от размышлений о вечном. Уму человеческому необходима опора – вера и духовная жертва, единственным же спасением является уход от мира в монастырь. Таков, по мнению Кирилла Туровского, представленному в ранних произведениях, смысл человеческой жизни и путь к Богу – «освяще- ние души и очищение телеси» [Повесть Ки-рила 1956, 348], принесение себя в жертву Богу как «онhх агньцъ» [Кюрила епископа Туровь-скаго сказание 1956, 355], праведное существование, отвержение мирских искушений, распинание себя «въльнымъ терпhниемъ» [Кюрила епископа Туровьскаго сказание 1956, 356], сосредоточенные мысли о душе, молитва, труд, воздержание, смирение, все то, что автор подразумевает под «монашеской добродетелью». Мировоззренческой спецификой понимания древнерусскими иноками идеи обо-жения выступает отсутствие интереса к теоретическим поискам пути к Богу и сосредоточенность на практической стороне вопроса – возможности быть угодными Богу, всеми возможными способами достичь в себе образа и подобия [Бондарь 2014, 252].
В целом можно охарактеризовать этот этап творчества Кирилла Туровского как период популяризации индивидуального, личностного спасения («свое сдевающе спасение» [Повесть Кирила 1956, 353]), как сложного пути самосовершенствования. Отметим, что для византийского богословия характерно понимание спасения не просто как дара Господа, но скорее как «заслуги», которую необходимо заработать в процессе всей своей духовной, морально-нравственной жизни, направленной на сложнейшее религиозное восхождение к Богу, обожение [Чистякова 2018, 9].
Однако будучи поставлен в епископы города Турова и включившись в политическую и идеологическую борьбу, Кирилл Туровский меняет свои взгляды. На новом этапе творчества усложняется не только стиль повествования, но углубляется и идейная проблематика произведений преподобного Кирилла. Уже в «Слове о расслабленном», используя аллегорический метод александрийского богословия, Кирилл толкует известную евангельскую притчу о человеке, тридцать восемь лет пролежавшем в болезни, в совершенно новом ключе. Автор помещает в уста Иисуса Христа важнейшую мысль о великом божественном человеколюбии и служении Бога всему человечеству и каждому человеку, раз мир и природа сотворены для людей, а сам Он вочеловечился ради исцеления человеческих душ: «Тебе ради, горьняго царства ски- петры оставль, нижьним служа объхожю, – не придох бо, да ми послужать, нъ да послу-жю. Тебе ради, бесплътьн сы, плътию обло-жихъся, да всhх душевныя и телесныя неду-гы ицhлю. <…> И кто ин мене вhрнhй слу-жай тобh? Тобh всю тваь, на работу ство-рих; небо и земля тобh служита…» [Того же грhшнаго мниха слово 1959, 333]. Кирилл очень подробно описывает служение Бога обычному мирскому человеку, популяризируя христианство, но в этом ощутим и необыкновенный гуманизм автора, стремящегося «приземлить» божество, приблизить его к человеку, показать его причастность и любовь. Такое понимание вочеловечивания Сына Божия, его жертвы и страданий как акта глубочайшей любви Бога сходно с евангелистской мыслью. Евангелист Иоанн пишет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3:16-17). Апостол Павел также отмечает, что «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5:8). Любовь Творца к Сыну и ко всем людям, любовь людей друг к другу – великое чувство, способное спасти от рабства, унижения, ненависти и вражды. Именно любовь способна приблизить человека к Богу. Как справедливо отмечает В.В. Бычков: «Так высоко человеческая мысль еще никогда не ставила ни человека, ни его, пожалуй, самое сложное и противоречивое чувство – любовь» [Бычков 1995, 168].
Идея служения человеку не только Сына Божия, но и всех церковных деятелей, звучит в «Притче о человеческой душе и теле», которая имеет широкий круг адресатов: это и церковные сановники, и князья, простой русский народ. Отметим, что выбирая для своего произведения апокрифический сюжет, формой для своих мыслей – народный жанр притчи, традиционные художественные средства, понятные многим, автор хочет быть понятым и услышанным. Важно также отметить, что для понимания его богословских построений необходимы элементарные церковные знания. Объединяя в философско-художественной форме христианское мировоззрение с народ- ным, Туровский не занимается теоретизированием и богословием, его рассуждения обращены к простому русскому человеку. Главной миссией ученого, «размышляющего» человека, по мнению автора, становится распространение своих знаний, попытка поделиться ими с другими людьми, а значит, спасение человеческих душ [Волкова 2022, 85]: «Тако обрhтый божестьвенныхъ книгъ скровище, пророческых же и псаломьскых и апостольс-кых и самого спаса Христа спасенных словес истиньный с расужениемь разум, – уже не собh единому бысть на спасение, но и инhмь многимъ послушающим его» [Кири-ла мниха притча 1956, 340]. Таким образом, постижение веры через Божественное откровение ведет не к индивидуальному спасению, за которое радело замкнутое на себе монашество. Самосовершенствуясь, духовный деятель должен транслировать познанное вовне, он должен делиться с окружающими людьми, ведь при условии правильного преподнесения это «удвоить чhловечьскыя душа» [Ки-рила мниха притча 1956, 340], приведет к привлечению большего количества мирян к пониманию и принятию христианства, а следовательно, к вере и спасению. Для восточного христианства характерна идея спасения, осуществляемого действием Божьей благодати, но зависимого от проявления веры человека, которому изначально дарована свобода воли и выбора. Именно поэтому преподобный Кирилл распространением своих идей пытается привести русских людей именно к осознанному обретению свободы выбора Бога. Как отмечает В.Н. Лосский, «божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию» [Лос-ский 1991, 244].
Резюмируя вышесказанное, отметим идейный генезис древнерусского автора: фокус направленного вглубь себя взгляда аскета и столпника перенаправляется в сторону других людей – им служит Господь, им же должен служить священник и монах. В этом, по мнению Кирилла, суть христианского вероучения – в верном служении людям и терпеливой любви, что, в свою очередь, отражает глубокий антропологизм и гуманизм авторского мировосприятия.
Развитие идеи спасения в творчестве Кирилла Туровского
В «Слове о расслабленном» мы обнаруживаем отражение ведущей византийской идеи о создании человека по образу именно Сына Божия: «Тебе ради, невидим сы ангель-скым силам вс h м, челов h ком явихъся, не хо-щю бо моего образа в тл h нии презр h ти ле-жаща, нъ хощю и спасти и в разум истиньный привести. И глаголеши: “Челов h ка не имам!” Аз бых челов h к, да Богомь челов h ка сътво-рю! Рех бо: “Бози будуть и сынове Вышняго вси”» [Того же гр h шнаго мниха слово 1959, 333]. Последние слова в этом отрывке почти дословно 4 повторяют идею Григория Богослова 5 о том, что «Христос, будучи совершенным Богом, для того и стал совершенным человеком, чтобы мы, оставаясь совершенными человеками, точно в такой же степени совершенно стали Богом. Совершенство вочеловечения оказывается равно совершенству нашего обожения» [Лурье 2006, 77]. Как отмечает В.М. Лурье, эти мысли Григорий высказывает в проповедях, которые, как и в случае Кирилла Туровского, обращены к простым прихожанам и людям, только готовящимся принять крещение. В более ранней «Повести о бельцах и монашестве» автор использует иную, более обтекаемую, формулу, обещающую абстрактное, возможно, малопонятное для простых людей «обоже-ние», а не конкретное становление человека богом 6: «Сын сый Божий, съшедый с небе-се, и воплотися нашего ради спасениа и бысть челов h к, да челов h ка обожить» [Повесть Кирила 1956, 351]. Непревзойденный мастер слова преподобный Кирилл меняет всего лишь оттенок фразы, но для прихожан причина, по которой Сын Божий вочеловечился, превращается из процессуального «обоже-ния» (нелегким путем которого монахи идут всю жизнь) в единовременный (уже совершившийся!) акт с четкой единственной целью – сделать людей не сынами Бога, но богами. А людям остается лишь самая малость – креститься, раскаяться и больше не грешить: «По крещении не велить нам Господь съгр h шати, да не пакы и истьлим об-новленаго Богомь челов h ка» [Того же гр h шнаго мниха слово 1959, 335].
Сотериологическая концепция, соответствующая детерминированным взглядам Кирилла Туровского на миссию церковнослужителей и поставленным целям расширения христианизированной аудитории, зиждется «на трех китах»: концептах крещения, покаяния и избегания сознательного греха. Рассмотрим их подробнее.
Положение о спасении в творчестве преподобного Кирилла тесно связано с оптимистической идеей крещения 7, как возможности обновиться и начать новую земную жизнь с «чистого листа». В восточнохристианской святоотеческой традиции путем таинства Крещения возможно снятие только первородного греха, то есть очищение человеческой природы от греховности, возникшей вследствие грехопадения Адама. История о первом человеке, тесно переплетенная с древним Вавилонским талмудическим сюжетом о слепце и хромце, представлена в «Притче о Душе и Теле». По оригинальной трактовке Кирилла Адам жил в Эдеме и охранял святое место (рай), в которое ему было запрещено входить раньше времени 8. Кирилл Туровский вслед за Иоанном Дамаскиным 9 разделяет Эдем – место преступления Божьего закона, и рай – место абсолютной святости, предуготовленное в будущем для очистившихся от грехов. Вся вселенная была дарована Адаму и покорено все живое на земле, однако, ослепленный гордыней, он посягнул на святое, преступив Божий закон, – и вошел из Эдема в рай, где вкусил от Древа познания добра и зла. Важно отметить, что в этической парадигме Кирилла Туровского гордыня является самым страшным грехом человека – грехом «в разумh», то есть осознанным [Кирила мниха притча 1956, 344], воссоздающим грех первородный и способным безвозвратно погубить человеческую душу. Гордыня в понимании Кирилла – это воровство у Бога его «труда», сторожем которого поставлен человек, – «див-ныя божия твари устроение» [Кирила мниха притча 1956, 342], то есть способа мироздания. Первый человек пошел на осознанную кражу того, что было создано для него и должно было быть ему даровано, и оказался не готов ни сердцем, ни сознанием к тому, что познал. Грехопадение разрушило благодатное существование первого человека, и он без дол- жного, по мнению Кирилла, смирения и раскаяния в своем грехе был изгнан из Эдема.
Сын же Божий, вочеловечевшись, освятил человеческую плоть и искупил первородный грех человечества. Своим подвигом и великой жертвой Иисус обновил человека и снял с него вину перед Богом: «Се в тоб h Адама мозоли исц h лих, и падъша преступлениемь възведох, и всеродьную того клятву ныня отях, омых сквьрну всякого пр h гр h шения крещениемь» [Того же гр h шнаго мниха слово 1959, 335]. Крещение же согласно воззрениям Кирилла Туровского «обнуляет» в каждом новообращенном христианине 10 и грех Адама, и все предыдущие земные грехи, являясь основой предопределения к спасению. Однако, предупреждает Кирилл, есть условие – нельзя снова грешить и, Туровский здесь делает акцент, нельзя грешить сознательно («в разум h »), а согрешив, необходимо немедленно раскаяться. Иначе вся тяжесть грехопадения снова обрушится на плечи согрешившего и тогда никогда не войти ему в вечную жизнь. Концепт разумного, сознательного греха – частый мотив произведений туровского епископа, выражающий идею о возможности свободного выбора между добром и злом. Сознательные грехи, по мысли автора, из которых можно выделить тщеславие, высокомерие, лицемерие, жажду чинов и славы и пр., неизбежно влекут личность в пропасть первородного греха – гордыни, тем самым закрывая перед человеком двери заветного спасения.
Концепт раскаяния является важнейшим аспектом сотериологической концепции преподобного Кирилла Туровского. Автор уверен, что покаянием мог искупить свой грех Адам, раскаяния ждет домовитый человек во время судебного опроса слепца в «Притче о душе и теле». Кирилл Туровский «древом жизни» называет благодатное покаяние (букв. др.-греч. μετάνοια – «изменение мыслей»), которое отверг первый человек, не сменив «надмение высокомыслья» на смирение, за что и был осужден вместе со всеми своими потомками на неминуемую смерть. Раскаяние есть очищение души и тела от всех прегрешений, которое дарует человеколюбивый Господь. Бог, по мнению Туровского, не любит угождающих: страшным пороком является «волное богоуго-дья дhлатель» [Кирила мниха притча 1956, 343]. Однако Господь особенно любит соглас- но воззрениям автора раскаявшихся грешников: «Оле многое Владычне человhколюбие! И казнить ны и милуеть, грhха ради озлобля-еть ны – и паки покаянья ради приемлеть; не хощеть бо смерти грhшнича, но обратитися велить и живу ему быти 11. <…> Нhсть бо грhха, иже сдолhеть Божии милости» [Кири-ла мниха притча 1956, 344]. Крещение, по мнению Кирилла, возрождает человека, а покаяние перерождает, трансформирует в нем зло в добро: «Так весна красная – это вера Христова, которая крещением возрождает человеческую природу: бурные ветры – это греховные помыслы, которые, чрез покаяние превратившись в добрые, умножают душеполезные плоды» [Слово на антипасху 1880, 17].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что на этапе зрелого религиозно-философского творчества Кирилл Туровский уже не проповедует жесткий аскетизм. Для его сотери-ологической системы характерна идея неэлитарного, универсального спасения 12, то есть равноправия всех людей перед Господом и наличия у каждого человека возможности достичь Царствия Небесного.
Отметим, что идея спасения, для достижения которого не нужны чрезвычайные усилия, характерна для многих древнерусских произведений XII века. Церковные деятели, работая над основной задачей привлечения и сохранения паствы, проповедуют концепцию спасения, самостоятельно приходящего к тем христианам, которые выполняют общие предписания церкви. Так, например, Моисей Новгородский в «Поучении о чрезмерном пьянстве» проповедует мысль о том, что плотские радости не греховны ровно до тех пор, пока им есть мера и надлежащее время: «А делал бы в нужное время и в меру, и был бы спасен. Пусть каждый, веры достойный, обычая держится так: желанию – время, а на избыток желанья узду налагать воздержанья; если же будет желание в пору, то делай что хочешь – но в меру, а не безмерно» [Поучение Моисея 1990, 214]. Григорий Белгородский в своем «Поучении философа» также выступает против чрезмерности, объявляя ее грехом. Спасение же в раскаянии: «Раскайтесь! Откажитесь от такого веселья, что велит напиваться по праздникам, и восплачьте, каясь в ваших излише- ствах, иначе закроется царство небесное» [Поучение философа 1990, 217].
При условии праведной жизни или совершенного вовремя раскаяния, каждому человеку предстоит воскреснуть и пребывать в вечности. После второго пришествия Христа произойдет всеобщее воскрешение душ в своих собственных телах: «Тогда бо души наши в телеса внидуть и приимуть въздание кождо по своим д h ломъ – праведници в в h чную жизнь, а гр h шници в бесконечную смертную муку» [Кирила мниха притча 1956, 347]. Отличными от принятых ортодоксальных воззрений выступают воззрения Кирилла на посмертные «мытарства» души. Согласно им, до второго пришествия Христа человеческие души сохраняются «Бог знает, где», не зная ни мучений, ни суда [Кирила мниха притча 1956, 347]. Суд же Божий будет происходить уже после воскрешения душ в собственных телах, и только тогда каждый человек получит воздаяние по делам своим: праведники – жизнь вечную в своих телах, грешники – бесконечные душевные муки и разрушение плоти [Ки-рила мниха притча 1956, 347].
Спасение для Кирилла Туровского в первую очередь связано с Божьей благодатью, дарованной «обильно человhчьскому роду 13» [Кюрила мниха слово о слhпець 1959, 336], так как моральному и религиозному самосовершенствованию, как мы видим по идейному содержанию произведений зрелого этапа творчества, автор не уделяет уже должного внимания и не высказывает жестких «неимоверных» требований [Аверинцев 1974, 184]. Индивидуально нравственный путь к Абсолюту из сложной многоуровневой траектории движения к возвращению утерянного богопо-добия путем духовного гнозиса и бесконечного самосовершенствования, характерной для византийского богословия и древнерусской монашеской среды, превратился в мировоззрении Кирилла Туровского в достаточно простой, понятный мирскому человеку принцип праведности. Кирилл Туровский, в отличие от восточных святых отцов, не отрицает тленности природы человека, возможности греха и несовершенства людей и земного мира. Напротив, преподобный Кирилл как добрый пастырь понимает слабость человеческого естества окружающих его людей и проповедует всеоб- щее спасение для них через великое божественное прощение и любовь. На этом зиждется сотериологическая концепция туровского епископа. Не признавая византийской идеи, касающейся подобия Господа 14, к которому необходимо стремиться ради спасения, Кирилл Туровский проповедует идею об образе Бога, изначально заключенному в человеке. Благодаря ему спасение вследствие принятия святого крещения (равного свободному выбору веры) и нравственной земной жизни даровано Господом каждому человеку. Преподобный Кирилл транслирует идею о возможности освобождения от греха, очищения и обновления человека путем покаяния, тем самым даря своей пастве надежду на возможность ее будущего – нетленного бытия.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00050 «Византийская философия как феномен взаимовлияния западной и восточной культур и источник формирования философии в Древней и Средневековой Руси», https://rscf.ru/project/22-18-00050/
The work was supported by the Russian Science Foundation (grant № 22-18-00050) «Byzantine Philosophy as a Phenomenon of Mutual Influence of Western and Eastern Cultures and the Source of the Formation of Philosophy in Ancient and Medieval Rus», https://rscf.ru/en/project/22-18-00050/
-
2 Ср.: «Обновилась тварь; уже не будут называть богами стихий, ни солнца, ни огня, ни источников, ни деревьев. Отселе ад уже не принимает в жертву младенцев, закалаемых отцами, и смерть уже не чествуется; ибо прекратилось идолослуже-ние, погублено насилие бесовское таинством креста, и человеческий род не только спасен, но и освящен Христовою кровию» [Слово на антипасху 1880, 14].
-
3 Ср.: «Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского. <…> И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще живущими, но уповающими на жизнь вечную. И уже не друг друга бесам закалаем, но Христос за нас закалаем, <закалаем> и раздробляем в жертву Богу и Отцу. И уже не <как прежде>, жертвенную кровь вкушая, погибаем, но, пречистую кровь Христову вкушая, спасаемся. <…> И хотя прежде пребывали мы в подобии зверином и скотском, не различали мы десницы и шуйцы и, прилежа земному, не заботились нисколько о небесном, ниспослал Гос-
подь и нам заповеди, ведущие в жизнь вечную… <…> Итак, быв чуждыми, наречены мы народом Божиим, быв врагами, названы сынами его» [Слово о законе и благодати 1990, 113–114].
-
-
4 Ср.: «Господь воплотился, и стал человеком Бог дольний [т.е. снисшедший на землю], чтобы соединиться и стать с ним единым, но и более того, – чтобы и я стал настолько же Богом, насколько Он – человеком (tva Yevm^ai togovtov 6so^, o gov sKivo^ a v6pmno^)» (Слово 29, богословское III, О Сыне); «Веруй: <...> насколько Бог стал ради тебя человеком, настолько и ты станешь через Него Богом» (Слово 40, На святое крещение) (цит. по: [Лурье 2006, 77]). Однако эта идея не нова для византийского богословия, чуть менее однозначно она звучит у Иринея Лионского («…Иисусу Христу, Господу нашему, Который по неизмеримой благости Своей сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он» [Ириней Лионский 2008, 487] и Афанасия Великого («Оно [Слово Божие] вочеловечилось, чтобы мы обожились» [Афанасий Великий 1903, 217].
-
5 О мистериальном настроении проповедей Кирилла Туровского, роднящих его творчество с идеями Григория Богослова подробно см.: [Еремин 1966].
-
6 Также в более «мягкой форме» эта идея звучит у митрополита Илариона в «Слове о законе и благодати», ср.: «И столь помиловал преблагой Бог человеческий род, что и чада плоти чрез крещение и добрые дела становятся сынами Божиими и причастниками Христу. Ибо, как говорит евангелист, «тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились», действием Духа Святого в святой купели» [Слово о законе и благодати 1990, 110].
-
7 Таинство крещение как один из путей обоже-ния проповедовал в своих религиозно-философских трудах Григорий Богослов. Подробно см.: [Еп. Ила-рион (Алфеев) 2007, 376].
-
8 Ср.: «А после того как Бог вознамерился по образу и по подобию Своему сотворить человека… то прежде поставил для него как бы некоторый царский дворец, живя в котором он имел бы блаженную и вполне счастливую жизнь. И этим является Божественный рай, руками Бога насажденный в Эдеме, хранилище веселия и всякой радости. Ибо Эдем переводится: наслаждение. Лежа на востоке – выше всей земли… он – истинно Божественное место и жилище, достойное того, кто создан по образу Божию; в нем не пребывало ни одно из бессловесных существ, а один только человек – создание Божественных рук» [Иоанн Дамаскин 2002, 236]. Однако у византийского Отца Церкви отсутствует запрет на вход в рай для первого человека.
-
9 То есть не будучи посвящен, не будучи достаточно к этому готов – «преже освящения»,
«не свершен дар священия» [Кирила мниха притча 1956, 344]. Как отмечает Григорий Богослов: «Напротив того, оно [древо познания] было хорошо для употребляющих благовременно (потому что древо сие, по моему умозрению, было созерцание, к которому безопасно приступать могут только опытно усовершившиеся)» [Григорий Богослов 1912, 665].
-
10 Кирилл Туровский в своих произведениях призывает к крещению уже взрослых людей.
-
11 Ср.: «Скажи им: «Жив я, – говорит Владыка Господь Иегова, – я нахожу удовольствие не в смерти нечестивого, а в том, чтобы нечестивый отступил от своего пути и жил”» (Иезекииль 33:11).
-
12 Мы используем термин «универсальное спасение», чтобы разграничить взгляды Кирилла Туровского и идеи оригенизма касательно всеобщего спасения (апокатастасиса), которые были осуждены на V Вселенском соборе как еретические. Отметим, что эсхатологическая часть сотерио-логических концепций Оригена и Кирилла Туровского полностью не совпадают, так как преподобный Кирилл не отрицает идеи о вечных муках для грешников.
-
13 Иоанн Златоуст вслед за апостолом Павлом называет это «избытком благодати» [Иоанн Златоуст 1903, 507].
-
14 Ср.: «Аще бо и нарицаеться Христос челов h комъ, то не образом, но притчею, ни единого бо подобья им h еть челов h къ Божья. Не сум-нить бо ся писание и ангелы челов h кы нарицати, – но словомъ, а не подобиемь. Аще бо блазняться етери, слышаще Моис h я глаголюща: «Рече Бог: створим челов h ка по образу нашему и подобию», – и прилагають к бесплотному т h ло, не имуще стройна разума, и есть си ересь и донын h челов h кообразно глаголющим Бога, иже никако не описается, ни м h ры качьству имать» [Кирила мниха притча 1956, 342].
Список литературы Генезис концепции спасения в религиозно-философском наследии Кирилла Туровского: византийское влияние и оригинальность идей
- Аверинцев 1974 – Аверинцев С.С. Западно-восточный генезис литературных канонов византийского средневековья // Типология и взаимосвязь средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974. С. 152–191.
- Афанасий Великий 1903 – Афанасий Великий. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти // Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великаго, архиепископа Александрийскаго. Ч. 1. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Собств. тип, 1903. С. 191–263.
- Бондарь 2014 – Бондарь С.В. Антропологические воззрения святого Кирилла Туровского в контексте христианского учения о человеке // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw, en proswpw, en eidei. Вып. 4. СПб.; Казань: [б. и.], 2014. С. 242–347.
- Бычков 1995 – Бычков В.В. Эстетика Отцов Церкви. М.: Ладомир, 1995.
- Баранкова 2017 – Баранкова Г.С. Оригинальное и заимствованное в творчестве Кирилла Туровского // Русская речь. 2017. № 5. С. 79–89.
- Виноградов 1915 – Виноградов В.П. Уставные чтения. III // Очерки истории греко-славянской церковно-учительной литературы. Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1915. C. 115–120.
- Волкова 2022 – Волкова А.А. Опыт осмысления понятий веры, разума и познания мыслителями Киевской Руси в контексте гносеологической традиции ранневизантийской патристики // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2022. Т. 19, вып. 3. С. 82–88.
- Греков 2012 – Греков Б.Д. Киевская Русь. М.: Алгоритм, 2012.
- Григорий Богослов 1912 – Григорий Богослов. Слово 45. На Святую Пасху // Творения. В 2 т. Т. 1. СПб.: Изд-во П.П. Сойкина, 1912. С. 661–680.
- Еп. Иларион (Алфеев) 2007 – Еп. Иларион (Алфеев). Жизнь и учение святителя Григория Богослова. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007.
- Еремин 1966 – Еремин И.П. Ораторское искусство Кирилла Туровского // Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М.; Л.: Наука, 1966. С. 132–144.
- Замалеев 1987 – Замалеев А.Ф. Философская мысль средневековой Руси. Л.: Наука, 1987.
- Златоструй 1990 – Златоструй. Древняя Русь. XII–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990.
- Иоанн Дамаскин 2002 – Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. М.: Индрик, 2002.
- Иоанн Златоуст 1903 – Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к римлянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского. Т. 9. Ч. 2. СПб.: Изд. С.-Петерб. духов. акад., 1903. С. 483–859.
- Ириней Лионский 2008 – Ириней Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания: (Против ересей). СПб.: Изд. Олега Абышко, 2008.
- Кирила мниха притча 1956 – Кирила мниха притча о человhчстhй души и о телеси, и о преступлении божия заповhди, и о воскресении телесе человhча, и о будущемь судh, и о муцh // Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. С. 340–347. (ТОДРЛ; т. 12).
- Колесов, 2016 – Колесов В.В. Стилистика и поэтика Кирилла Туровского // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw, en proswpw, en eidei. Вып. 6. СПб.; Казань: [б. и.], 2016. С. 10–35.
- Кюрила епископа Туровьскаго сказание 1956 – Кюрила епископа Туровьскаго сказание о черноризьчьстhмь чину, от вьтхаго закона и новаго; оного образ носяща, а сего дhлы съвьршающа // Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. С. 354–361. (ТОДРЛ; т. 12).
- Кюрила мниха слово о слhпець 1959 – Кюрила мниха слово о слhпець и о зависти жидов, от сказания евангельскаго, в недhлю 6-ю по пасць // Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 336–340. (ТОДРЛ; т. 15).
- Левшун 1992 – Левшун Л.В. Проповедь как жанр средневековой литературы (на материале проповедей в древнерусских рукописных и старопечатных сборниках): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1992.
- Лосский 1991 – Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991.
- Лурье 2006 – Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период. СПб.: Axiôma, 2006.
- Мильков 1989 – Мильков В.В. Древнерусское еретичество в идейно-политической борьбе XII столетия // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 1. М.: Наука, 1989. С. 5–27.
- Мильков 2016 – Мильков В.В. Своеобразие религиозных и нравственных воззрений Кирилла Туровского //Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Palaiorwsia: en cronw, en proswpw, en eidei. Вып. 6. СПб.; Казань: [б. и.], 2016. С. 35–65.
- Мильков 2019 – Мильков В.В. Иларион // Философская антропология. 2019. Т. 5, № 1. С. 106–107.
- Никольский 1913 – Никольский Н.К. О древнерусском христианстве // Русская мысль. 1913. Кн. 6. С. 1–23.
- Новосельцев и др. 1965 – Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. М.: Наука, 1965.
- Повесть Кирила, 1956 – Повесть Кирила многогрhшнаго мниха к Василию игумену Печеръскому о бhлоризцh человhцh, и о мнишьствh, и о души, и о покаянии // Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. С. 348–354. (ТОДРЛ; т. 12).
- Поучение Моисея 1990 – Поучение Моисея о чрезмерном пьянстве // Златоструй. Древняя Русь. XII–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 214.
- Поучение философа 1990 – Поучение философа, епископа Белгородского // Златоструй. Древняя Русь. XII–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 215–217.
- Романов 2022 – Романов Б. Люди и нравы Древней Руси. М.: Ломоносовъ, 2022.
- Рыбаков 2021 – Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. Происхождение Руси и становление ее государственности. М.: Акад. проект, 2021.
- Слово в неделю Цветоносную 1821 – Слово в неделю Цветоносную (Ваий), от сказания Евангельского // Калайдович К. Памятники Российской словесности XII века. Творения Кирилла, епископа Туровского. М.: Тип. С. Селивановского, 1821. С. 1–9 .
- Слово на антипасху 1880 – Слово на антипасху или в новую неделю по Пасхе // Творения святаго отца нашего Кирилла, епископа Туровскаго с предварительным очерком истории Турова и туровской иерархии до XIII века. Издание Преосвященнаго Евгения, епископа Минскаго и Туровскаго. К.: В Тип. Киево-Печерской Лавры, 1880. С. 14–22.
- Слово о законе и благодати 1990 – Слово о законе и благодати митрополита Илариона // Златоструй. Древняя Русь. XII–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 106–125.
- Того же грhшнаго мниха слово 1959 – Того же грhшнаго мниха слово о раслабленhмь, от бытия и от сказания евангелскаго, в неделю 4 по пасцh // Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 331–335. (ТОДРЛ; т. 15).
- Чистякова 2018 – Чистякова О.В. Свобода воли и божественное предопределение в восточной и западной патристике в контексте ортодоксальных (сотериологических) и философских различий // Logos et Рraxis. 2018. Т. 17, № 2. С. 6–15. DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2018.2.1