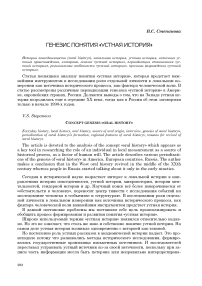Генезис понятия «устная история»
Автор: Степанова Варвара Сергеевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (22), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу понятия «устная история», которая предстает важнейшим инструментом в исследовании роли отдельной личности в локальном измерении как источника исторического процесса, как фактора человеческой воли. В статье рассмотрены различные периодизации генезиса «устной истории» в Америке, европейских странах, России. Делаются выводы о том, что на Западе устная история возродилась еще в середине ХХ века, тогда как в России об этом заговорили только в начале 1990-х годов.
История повседеневности ("oral history"), локальная история, устная история, источник устного происхождения, интервью, генезис "устной истории", периодизация становления "устной истории", региональные особенности "устной истории", причины возрождения "устной истории"
Короткий адрес: https://sciup.org/144153627
IDR: 144153627
Текст научной статьи Генезис понятия «устная история»
The article is devoted to the analysis of the concept «oral history» which appears as a key tool in researching the role of an individual in local measurement as a source of historical process, as a factor of human will. The article describes various periodizations of the genesis of «oral history» in America, European countries, Russia. The author makes a conclusion that in the West oral history revived in the middle of the XXth century whereas people in Russia started talking about it only in the early nineties.
Сегодня в исторической науке возрастает интерес к локальной истории в направлениях истории повседневности, устной истории, микроистории, истории ментальностей, гендерной истории и др. Научный поиск всё более поворачивается от «обстоятельств к человеку», переносит центр тяжести с исследования событий на исследование человека в «событиях» и «структурах». В исследовании роли отдельной личности в локальном измерении как источника исторического процесса, как фактора человеческой воли важнейшим инструментом предстает устная история.
В данной постановке проблемы мы поставили себе цель проанализировать и обобщить процесс формирования и развития понятия «устная история».
Широко используемый термин «устная история» появился относительно недавно. Но это не означает, что столь же ново и собственно понятие устной истории. На самом деле устная история возникла одновременно с историей как таковой.
Но постепенно роль устных рассказов в академической истории падает. Это происходило потому что развивались методы исторического исследования, формировались государственные хранилища письменных источников. И исследователей переставал устраивать устный источник из-за своей неточности, поскольку при записи часть информации могла быть потеряна или неправильно интерпретирова- на. Сначала ученые-историки перестали доверять устным источникам, а потом и вовсе отвергли их как таковые.
Со второй половины XX в. начинается возрождение устных источников и устной истории [Щеглова, 2008, с. 12]. Появление устной истории было обусловлено рядом факторов: во-первых, развитием звукозаписывающей аппаратуры; во-вторых, методологическими поисками в зарубежной историографии, находившейся под влиянием философии экзистенциализма, постмодернизма и традиций социальной истории. Теперь рассказ очевидцев можно было записывать на пленку, и, таким образом, исключалась погрешность исследователя, то есть он мог вести просто беседу, а пленка все фиксирует, и даже малейшая часть информации не могла быть потеряна.
За рубежом устная история стала трактоваться как «создание новых документов при помощи записей интервью» [Глюк Шерна, 2001, с. 27]. Есть несколько точек зрения на дату появления устной истории за рубежом. Т.К. Щеглова говорит, что она появилась в конце 1940-х гг. и связана с именем Аллана Нэвиса (проект по сбору интервью у известных политических деятелей для изучения дипломатической и политической истории) [Щеглова, 2008, с. 12]. Д.Н. Хубова пишет, что «только в США (не учитывая богатого европейского опыта) «устная история» впервые встречается за столетие до Нэвиса», например: 1838 г. – Ш. Дайбл, 1844 г. – интервьюирование Л. Драпера, с середины 1890-х гг. – «устная история» мормонов Э. Енсена [Хубова, 1992, с. 18–19].
Согласно периодизации, предложенной американским исследователем Д. Дуна-вэем из университета Нью-Мехико, в развитии устной истории на Западе можно выделить несколько этапов. На первом, с 1950-х гг., исследователи, прежде всего, собирали материалы для создания биографий видных общественных и государственных деятелей.
Второй этап, начавшийся в конце 1960-х гг., отличали попытки создания альтернативной истории, т. е. истории народов, не имевших письменности.
Переход от индивидуальных исследований к коллективным проектам в середине 1970-х гг. символизировал начало третьего этапа. В это время происходит институционализация устной истории: создаются Международный комитет устной истории и национальные ассоциации исследователей, собираются архивы устных источников, широко проводятся конференции и симпозиумы, издаются специальные журналы.
В 1990-е годы начался четвертый этап, связанный с появлением нового поколения историков, дальнейшим развитием технических средств и расширением круга изучаемых проблем.
Д.Н. Хубова и М.В. Лоскутова также предприняли попытку разработать периодизацию устной истории. Приведем периодизацию Д.Н. Хубовой.
1948 – начало 1960-х гг. – «активное тиражирование» возрожденного метода и его терминологии.
Конец 1960 – середина 1970-х гг. – взрыв 1968 г., появление «новой журналистики», «крайне левых», феминистских и цветных направлений в историографии, крушение «колониальной истории».
Конец 1970 – начало 1990-х гг. – время дисциплинарного становления, споров о методологии и генезисе устной истории, аспектах интервьюирования; создании методологии «устных архивов» [Хубова, 1992, с. 9].
Периодизация М.В. Лоскутовой построена на видовом многообразии устной истории. В исследованиях М.В. Лоскутовой отмечены две сформировавшиеся в историографии устной истории противоположные тенденции: «стремление подчеркнуть новаторство устной истории» и «представить дело так, что устная история су- ществовала всегда» [Хубова, 1992, с. 5]. Начальный этап развития устной истории она относит к 1948 г., когда при Колумбийском университете был создан первый в мире исследовательский центр по изучению устной истории. Все следующие этапы объяснены включением новых стран в этот процесс.
1940–1960-е гг. – преимущественное развитие устной истории в США с «интересом к «великим людям и событиям»» – большой политике, крупному бизнесу – тенденция воспринимать устную историю как отрасль архивного дела [Там же, с. 8].
1960 – 1980-е гг. – «переориентация устной истории в социальное движение… потребность перейти от изучения «великих людей и событий» к истории простых людей, истории дискриминируемых групп населения. В устной истории сформировался подход к истории «безмолвствующего большинства», изучение которой сосредоточилось в центрах устной истории при университетах. Инициаторами нового подхода стали страны Западной Европы, которые пережили мировую войну и для которых не были характерны «архивный уклон» и интерес к выдающимся личностям» [Там же, с. 14, 21]. По мнению М.В. Лоскутовой, становление устной истории – это протест против «увлечения количественными методами, изучением масштабных социально-экономических структур и процессов, охватывающих длительные периоды», так как работы устных историков «возвращали читателя к привычным горизонтам человеческой жизни» «обещали возможность «непосредственного выхода» в историю – своеобразного «окна в прошлое» [Там же, с. 18].
К настоящему времени изучение методами устной истории исторического сознания, эмпирического опыта широко используется многими направлениями зарубежных гуманитарных исследований, такими как «обыденная история», или «история повседневности» (Германия), «слуховая история» (Канада), этнология, локальная и рабочая история (Англия), социальная история (Франция) [Там же, с. 73–76].
Что касается географического распространения и региональных особенностей «oral history», то особых успехов это направление достигло в США, где устные источники активно собирали и использовали многие научные центры [Томпсон, 2003, с. 67–72].
Другим крупнейшим центром устной истории является Западная Европа. Сначала европейская историческая наука критически относилась к устной традиции, но в последней четверти ХХ в. и она обратилась к устной истории. Доминировали сюжеты, связанные с социальными катаклизмами и потрясениями – войнами и революциями. Начиная со встреч в Болонье (1976) и Колчестере (1979) раз в два года стали проводиться международные конференции по устной истории, а затем была учреждена Международная устно-историческая ассоциация [Никитин, 1990, с. 212].
Самое мощное развитие европейское устно-историческое движение получило в Скандинавии. В других европейских странах использование устных источников долгое время оставалось ограниченным. Например, в Испании устная история возникла лишь по окончании долгого правления Франко, а ее первопроходцем стал английский историк Рональд Фрейзер [Томпсон, 2003, с. 73–76].
В Италии происхождение современной устной истории связано с сетью местных центров по изучению антифашистского партизанского движения в годы войны. Позднее, в 1970-е гг., возникла мода на междисциплинарную устную историю, которая стимулировала дальнейшие исследования. Сбор документальных свидетельств о фашистской оккупации был главной целью и в Нидерландах, где устная история изучается с 1962 г. на базе тесного сотрудничества между специалистами по современной политической истории, Международным институтом социальной истории и Голландским радио. В Германии «устная история», сутью которой явля- ется опрашивание «свидетелей эпохи», развивалась параллельно истории повседневности. Проекты посвящались, прежде всего, периоду национал-социализма и истории ГДР. В центре внимания исследователей находится «жизненный опыт» современников, что и стало основным вкладом устной истории в историографию [Обертрайс, 2004, с. 7–8].
В странах Восточной Европы в целом магнитофонные записи устно-исторических источников почти не велись. Система народных автобиографических конкурсов в Польше и поощрение литературного жанра устных свидетельств на Кубе являлись скорее исключением.
Сегодня исследования в рамках устной истории ведутся по всему миру. Впечатляет общенациональная программа по устной истории, реализуемая в Мексике, Бразилии, Австралии, Индии. В Китае активно проходил сбор воспоминаний о революции, а в годы «культурной революции» произошло смещение акцентов на историю заводов и деревень, но скоро прекратилось. Для Израиля после Второй мировой войны любые устные свидетельства стали важнейшей частью борьбы за национальное и культурное выживание. Первым памятником этой борьбе стал архив музея Яд Вашем в Иерусалиме. Впоследствии эта деятельность явилась катализатором многочисленных исследований по созданию Мемориального музея «Холокост» в Вашингтоне, программы Спилберга по видеозаписи свидетельств.
Во многих странах новая научная школа, возникшая на базе более совершенных методов использования устной традиции, оказалась преимущественно англоамериканской. Однако повсеместно ведущей тенденцией является внимание к социальной тематике, записи впечатлений простых людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что на Западе устная история возродилась еще в середине ХХ в., тогда как в России об этом заговорили только в начале 1990-х годов. Исследований в России очень мало, ровно, как и исследователей.