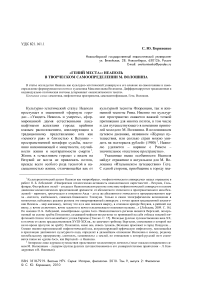«Гений места»: Неаполь в творческом самоопределении М. Волошина
Автор: Корниенко Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется Неаполь как культурно-эстетический универсум и его влияние на самосознание и самоопределение формирующегося поэта и художника Максимилиана Волошина. Дифференцируются традиционная и индивидуально-поэтическая системы детерминант «неаполитанского текста».
Семиотика, мифопоэтика пространства, самоидентификация, гете, волошин
Короткий адрес: https://sciup.org/14737226
IDR: 14737226 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи «Гений места»: Неаполь в творческом самоопределении М. Волошина
Культурно-эстетический статус Неаполя проступает в знаменитой «формуле города» – «Увидеть Неаполь и умереть», сформированной двумя естественными ландшафтными аспектами города: крайним южным расположением, апеллирующим к традиционному представлению юга как «земного рая» и близостью к Везувию – пространственной метафоре судьбы, постоянно напоминающей о минутности, случайности жизни и неотвратимости смерти 1. Жизнь в «счастливом городе» с видом на Везувий не могла не привлекать поэтов, прежде всего особого рода теснотой и насыщенностью жизни, отличающейся как от культурной тесноты Флоренции, так и жизненной тесноты Рима. Именно это культурное пространство окажется важной точкой притяжения для многих поэтов, в том числе и для путешествующего в компании приятелей молодого М. Волошина. В волошинском путевом дневнике, названном «Журнал путешествия, или сколько стран можно увидеть на полтораста рублей» (1900) 2, Неаполю уделяется – наравне с Римом – значительное «текстовое пространство».
Указанные выше особенности Неаполя найдут отражение в актуальном для М. Волошина «Итальянском путешествии» Гете. С одной стороны, приобщение к городу зна- чит для немецкого гения – преодоление затяжной депрессии и творческого кризиса через слияние с «общей гармонией», ибо «вся провинция (Неаполь и окрестности. – С. К.) уже целое столетие носит почетное название счастливой страны (Компанья Фе-личе)» [Гете, 1879. С. 326]. С другой стороны – во время первого восхождения на Везувий, актуализировавшего страх смерти, Гете-человек «малодушно» заявил о невозможности описания города: «О местонахождении города и его прелестях, которые были так часто описаны и восхвалены, я не скажу ни слова. “Vedi Napoli e poi muori!” – говорят здесь. Взгляни на Неаполь и умри» [Там же. С. 181]. Однако Гете-поэт, через несколько страниц текста преодолевший естественный страх Гете-человека, дает панорамное видение Неаполя:
«Везувий оставался у нас все время слева; он сильно дымил и я внутренне радовался, что я вижу наконец собственными глазами это замечательное явление. Небо все более расчищалось и, наконец, солнце жарко нагрело наше тесное, катящееся жилище. Мы приближались к Неаполю при совершенной чистой, светлой атмосфере и очутились действительно в иной стране. Здания с плоскими крышами указывают на другой климат; внутри они должны быть не особенно приветливы. Здесь все живет на улице и сидит на солнце, покуда оно светит. Неаполитанец считает себя обладателем рая и имеет о северных странах самое печальное представление <…>: «Всегда снег, деревянные дома, большое невежество, но денег довольно»» [Там же. С.184].
Поэтическая привилегия на особый взгляд на Неаполь, заданная Гете, формирует особое в и дение города молодым русским поэтом: «Взгляни на Неаполь и постарайся никогда не умирать!» [Волошин, 2006. С. 91] – так поэтически будет перефразирована Волошиным знаменитая формула города. Проницаемость жилища, вскрытие «внутренности жизни», карнавальная составляющая образа города – в этих компонентах Неаполя происходит полное совпадение интерпретации города Гете и Волошина:
«Мы лезли вверх очень долго, сопровождаемые двумя мальчуганами, которые, желая получить от нас незаслуженное сольди, старательно объясняли нам, что город, по которому мы бродим, есть Неаполь и что Италия прекрасная страна. Изредка из-за крыш домов и из-за зелени мелькала то голубая шапка Везувия с легким облачком наверху, то часть залива, то сияющие очертания Капри. Поднявшись до высоты Сан – Эльмо, мы долго сидели на старой крепостной стене, любуясь Неаполем и Везувием, меркнущим в ясных лучах вечернего солнца.
Когда стемнело и над Неаполем полетели по темному небу горящие точки бумажных шаров и на Везувии стали заметны легкие вспышки пламени, мы стали спускаться снова по крутым переулкам к Кьяйе. Все двери на улицу были отворены и сквозь них была видна внутренность итальянской жизни. Многие улицы прямо напоминали комнату, так как всюду перед дверями стоят столы, горят лампы; тут же работают, чешутся, умываются и т.д. Особенно поражает в Неаполе количество женщин и детей» [Там же. С. 96].
Статус поэта, обладающего особым проницающим зрением и способного «заглянуть под покрывало Изиды», прикоснуться к тайне, сойти в царство Плутона и вернуться обратно – это преимущество, которое позволяет поэту по сравнению с простым смертным «увидеть Неаполь и не умереть». Так увидел Неаполь и не умер Гете, находясь у подножия Везувия, к жерлу которого во второй раз, преодолев робость человека, поднимается Гете-поэт:
«Уже дорога через крайние предместья и сады указывала на нечто, принадлежащее царству Плутона. Так как давно не было дождя, то и вечно зеленые от природы листья, и все крыши, плинтусы и все, что только представляло малейшую поверхность, было одинаково покрыто густым пепельно-серым слоем пыли, так что только великолепное голубое небо и ярко сиявшее на нем солнце удостоверяли в том, что странствуешь еще между живыми» [Гете, 1879. С. 184].
Восхождение на Везувий, к жерлу вулкана, как схождение в царство Плутона, описанное в произведении Гете, значимо и для молодого русского поэта. В «Дневнике путешествия» Волошин подчеркнуто умолчит о впечатлениях «хождения в Аид и обратно», только в записях друзей будет отмечена «смелость Макса», «лезущего по лаве напрямик» [Волошин, 2006. С. 97] 3. Однако в личном письме к матери из следующего итальянского города – Салерно поэт вполне в духе Гете опишет свои впечатления:
«Кратер шел вниз глубокой воронкой, края которого желтели от серы. Изредка оттуда вырывались громадные клубы дыма и слышался шум. Воздух был наполнен какими-то едкими, удушливыми газами. Вниз открывалась поразительная панорама на весь Неаполитанский залив: с одной стороны Сорренто и Капри, а с другой вулканические очертания Мизенского мыса и Искии» [Волошин, 2003. С. 225].
Многие русские путешественники XIX в., суеверно относясь к поэтической формуле Неаполя, отмечали невозможность его рассмотрения, ссылаясь на плохую погоду, или задымление от Везувия. Например, путешествующий петербуржец Н. Страхов указывает в качестве визуального препятствия «туманный воздух», из-за которого, «чем шире развертывался перед глазами Неаполь, тем хуже он был виден» [Страхов, 1892. С. 58]. Невозможность для обывателя проникнуть живым в иное царство (и в Рай города, и в Аид вулкана) противопоставлена привилегии поэта, имеющего возможность изменить свою природу в этом особым способом маркированном пространстве. «Неаполь – это рай, – заключает Гете после восхождения на Везувий, – каждый живет здесь в каком-то опьяняющем самозабвении. То же самое и со мною: я едва узнаю себя, я кажусь себе совершенно другим человеком. Вчера я думал: или я прежде был сумасшедший, или сделался им теперь» [Гете, 1879. С. 199].
Маску обывателей, «смертных», носителей бытового, человеческого зрения, наденут шутливо подыгрывающие поэту спутники М. Волошина, в один голос утверждающие невозможность рассмотрения Неаполя с позиции, описанной Волошиным. Оба приятеля Волошина сразу «разоблачают», необычную панораму Неаполя:
«Прежде всего, должен обратить внимание Макса на его «сияющие очертания Капри и на пламя Везувия. Очертания Капри были были далеко не сиящие, а, наоборот туманные, а «пламя Везувия видел один только Макс, хотя он, как известно, особой дальнозоркостью не отличается. Впрочем, подобные казусы происходили с Максом не раз. Так, взлезши на Везувий, Макс увидел Неаполь и даже гулявших там по набережной красивых женщин, между тем как для остальных смертных, взлезших вкупе с ним, солнце сверкало с такой ослепительной яркостью, что не только прекрасных женщин, но и никаких признаков Неаполя отнюдь рассмотреть никто не мог» [Волошин, 2006. С. 96–97].
Особенность строения тела города – Неаполя: распахнутость внутреннего про- странства / быта – дает необыкновенную возможность для поэта проникновения в тайну «внутренности жизни», поэтизации быта, так как именно в южной Италии, и это отмечали многие путеводители, существует необыкновенная связь быта, повседневной жизни с искусством. С концепцией города как «поэтического Рая» связаны такие выделяемые, и Гете, и Волошиным атрибуты, как «отсутствие необходимости в заботе о хлебе насущном», счастливая «бездомность» (превращение всего города в большой дом – с открытыми комнатами-домами), беспечность и телесная нагота:
«Неаполь красив поразительно. Но самое интересное здесь уличная жизнь, которая изобилует многими своеобразными особенностями. Отсутствие костюма, например, совсем не считается здесь чем-то предосудительным, и улицы, набережные особенно кишат голыми ребятишками» [Волошин, 2003. С. 224].
Для Волошина образца 1900 г. поиск наиболее адекватной, соответствующей поэту среды существования – «первозданного мира» – был закончен в Неаполе. Тоска по «потерянному раю» определит многие тезисы ташкентских писем 1901 г. к матери. В ответ на ее сообщение о решении окончательно осесть в Коктебеле молодой поэт, негативно относясь к этой новости, начинает весьма настойчиво атаковать мать письмами, тематической доминантой которых становится прекрасная возможность купить «домик в раю»: «Не понимаю, почему Вам так хочется домик в Коктебеле, когда на свете есть много значительно лучших мест» [Там же. С. 250]. В качестве объективных, с точки зрения Волошина, альтернатив Коктебелю предлагались предместья грузинского Батуми и итальянского Неаполя. «В Коктебеле, – пишет молодой поэт, – у меня никогда не являлось желание иметь “свой домик”, но тут (в Батуми. – С. К. ) оно явилось невольно» [Там же. С. 237]:
«Батум своей природой и растительностью произвел на меня совершенно ослепительное впечатление. Вы представьте себе только эту тропическую растительность в соединении со снежными горами и морем, которые дают постоянную прохладу; полное отсутствие лихорадок и полное отсутствие пыли, которое делает его в климатическом отношении местом совершенно исключительным. И притом это место пока еще дикое, не опоганенное людьми и притом только в 10 верстах от большого портового города поч- ти на границе Малой Азии. <…> Нет, Вы, пожалуйста, бросьте совсем мысли о Коктебеле и купите земли там» [Там же. С. 233].
Семантическим дублетом Батуми окажется Неаполь. Если в Батуми поэтом актуализируются только некоторые черты Эдема – «отсутствие болезней» – «лихорадок», физический комфорт, выраженный в благодатной прохладе, отсутствии пыли, в «дикости», первозданности мест, то в образе Неаполя, представленном в дальнейших письмах, выступает «рай на земле»:
«А какая красота! Когда я попал туда, мне сначала показалось, что я вижу что-то знакомое, похожее на Ялту, но после понял, что Ялта сравнительно с этим просто лубочная копия с мастерского произведения гения. Там все голубое: и море и скалы, и небо. Глядя на Черное море, нельзя составить себе никакого представления о всей синей прозрачности Средиземного. Оно так же не похоже на него, как Патриаршие пруды на Коктебельский залив.
У нас был бы там маленький домик, окруженный тенистой рощей лимонов. Кругом бы вился виноград, рослы кактусы и агавы. В горах тысячи прогулок одна другой живописнее: и верхом, и пешком, и на лодке. Страшная дешевизна жизни. Симпатичные веселые итальянские крестьяне. Рядом в нескольких часах езды Неаполь. Дорога из Москвы всего 40 рублей» [Там же. С. 250–251].
Только гораздо позднее, после «многих лет странствий», к Волошину придет понимание как «единственности и исключительности» интегративного Коктебеля, так и пагубности для художника «жизни в раю». В статье «Золотой век» (1908), посвященной знаменитому восточно-крымскому («киммерийскому») пейзажисту К. Богаевскому, воссоздающему «лик земли», Волошин противопоставит избыточности «земного рая» «особую строгую бедность земли», характерную для «римской Компаньи, долин Ар-голиды и сожженных побережий восточного Крыма» [Волошин, 2007. Т. 5. С. 90–91].
Земли, сходные с Неаполем, становятся необходимым для поэта «воспоминанием», в платоновском духе, о «Золотом веке»; настоящая же жизнь художника связывается с теми «областями на земле, которые «внушают сиротливую, безнадежную любовь к себе»:
«Это те страны, где земля вочеловечилась, потому что человек много раз припадал с безумной нежностью к лону ее. Огненные свитки че- ловеческой истории развертывались по этой земле, она обожжена прикосновением человеческой мысли и потому она прекрасна и пустынна. <…> Пустыня, про которую я говорю, в грозном ритме, через тысячелетия наступает на плодородные долины человека, покрывая их саваном пыли и праха. Это пустыня, разделяющая шесть Трой, открытых Шлиманом, шесть городов, из которых каждый вырастал на могильниках предыдущего и ничего не знал о других. Шесть раз на одном месте расцветал богатый город, шесть раз развалины его покрывались землею и могильными травами. В этих местах лицо земли становится величаво и скорбно, как лицо старого человека.
Оцепеневшая, как долина Суда, лежит пустыня перед оком Господа, и человеческая мысль, живущая между землею и небом, ширится и растет между этих вечных зеркал.
Таково лицо римской Компаньи, породившей Лоррена, такова “Киммериан печальная область, в которой возникло искусство Богаевского”» [Там же. С. 89–90].
Творчество демиурга-художника, преодолевающего свое «великое сиротство», неизбывную тоску по «Золотому веку», связано, – по мысли Волошина, – не с «повторением, воссозданием красоты природы», а преображением ее: окончанием «незаконченного», «наполнением пустоты, оставшейся в природе»:
«Должна быть особая строгая бедность земли, чтобы пробудилось творчество и искусство получило мощную полноту и подобающий пафос.
Великие рассветы искусства были созданы в бронзовой наготе скудных долин Греции, в скромной простоте долин Тосканы и в унылом однообразии римской Компаньи» [Там же. С. 90].
Стереотипным представлениям своей юности о «райском» юге зрелый Волошин, выстраивающий свою поэтическую биографию, противопоставит «другой» – «истори-чески-насыщенный» пустынный юг, юг эстетически связанный с детскими воспоминаниями поэта:
«Мы забыли, что у земли есть лицо. Мы забыли, что лишь на юге жива наша мечта о Золотом Веке. Искусство – это мираж, это галлюцинация земли, которая в нас видит свои сны. А миражи бродят только по лицу пустынь и мрачных экстазах полудней.
Что-то здесь осиротело, Чей-то факел отсиял, Чье-то счастье отлетело, Кто-то пел и замолчал.
Это говорил Вл. Соловьев про берега Троа-ды, и то же самое можно сказать про каждую древнюю землю: и про римскую Компанью, и про долины Арголиды, и про сожженные побережья восточного Крыма.
В душе художников, взращенных этими скудными странами, бродят прекраснейшие миражи человечества.
Именно здесь – в пустыне, осемененной гением отошедших поколений, человек особенно сознает свою “преходимость и конечность”, здесь может он “возлюбить жизнь и землю неудержимо”, здесь постигает он свое “великое сиротство”» [Там же. С. 90–91].
«Исторически насыщенная пустыня» как синтез культур и эпох воплотилась для поэта в «единственном месте на земле» – Коктебеле, ставшем для «будущего Пушкина» аналогом пушкинских имений – Михайловского и Болдино. Путешествия позволили поэту не только совершить «творческое перерождение», но и атрибутировать в культурном плане «единственное место на Земле», вскрыть природу коктебельской пустыни как «истинной родины духа», где итальянский Неаполь наряду с азиатской пустыней станет одним из полюсов интерпретации «своего пространства».