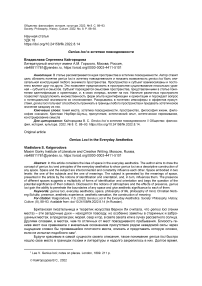Genius loci в эстетике повседневности
Автор: Кайгородова Владислава Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается идея пространства в эстетике повседневности. Автор ставит цель сблизить понятие genius loci и эстетику повседневности и показать возможность genius loci быть описательной конструкцией любого значимого пространства. Пространство и субъект взаимосвязаны и постоянно влияют друг на друга. Это позволяет предположить в пространстве существование нескольких уровней - субъекта и смыслов. Субъект порождается смыслами пространства, представленными в статье понятиями идентификации и ориентации, и, в свою очередь, влияет на них. Наличие различных пространств позволяет предположить множественность форм опыта идентификации и ориентации и порождает вопрос о потенциальной значимости их столкновения. Раскрываясь в понятиях атмосферы и эффектов присутствия, genius loci получает способность проникать в границы любого пространства и придавать эстетическое значение каждому из них.
Гений места, эстетика повседневности, пространство, философия жизни, философия сознания, кристиан норберг-шульц, присутствие, эстетический опыт, эстетическое переживание, конструирование смысла
Короткий адрес: https://sciup.org/149140734
IDR: 149140734 | УДК: 18 | DOI: 10.24158/fik.2022.8.14
Текст научной статьи Genius loci в эстетике повседневности
Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing, Moscow, Russia, ,
Британская писательница и теоретик искусства Вернон Ли считала, что genius loci (гении места) – эти загадочные духи – находятся повсюду, но особенно заметны в старинных и заброшенных местах, в пределах рек, морей, озер и гор, в свете заката или в лучах рассветного солнца. Другими словами, в местах, чем-то отличных от мест повседневного пребывания. Близость гениев мест она сравнивала с внезапным осознанием присутствия рядом неведомой силы через ощущение словно бы проявившейся плотности места, описать и представить которую сложно, если не испытал подобного сам1.
Будучи красивым в самой сущности своего описания, такое понимание genius loci быстро нашло свое место в границах поэзии и литературы и надолго закрепилось в них. Долгое время, пребывая лишь в форме яркой метафоры, используемой для описания тех мест, которые произвели незабываемое впечатление, потенциал genius loci не был философски раскрыт.
В последнее время наблюдается все более возрастающий к нему интерес. С одной стороны, «в наше время гений места – уже, как правило, часть массовой культуры, широко эксплуатируемая индустрией туризма и городского маркетинга» (Учитель, 2020, с. 142). С другой – он приобретает важное значение в архитектуре (Молодкина, 2018) и устанавливается в культуре как понимание совокупности « сильных мест (курсив наш. – В. К. ), максимальной ступенью реализации которых является искусство в особом измерении целостности и интенсивности проживания смыслов, длящегося очарования присутствия» (Костина, 2018). И в том и в другом случае genius loci , хотя и связывается с пространством (Norberg-Schulz, 1974), приобретая в его философско-эстетическом осмыслении вспомогательную роль, в основном употребляется лишь для описания особых художественно-исторических пространств и явлений.
Признавая неразрывную связь genius loci и пространств, отмеченных духом (т. е. уникальным отпечатком времени, эпохального события или личности автора), одно из которых в свое время было также рассмотрено нами (Кайгородова, 2022), мы, однако, хотели бы обратить внимание на способность genius loci , если не быть самостоятельным явлением, то выходить далеко за границы общепринятого понимания его лишь как части ауры произведения искусства1. Помещая его в наиболее отличный от изначального контекст, мы можем заново рассмотреть формирующие его механизмы места и сознания и таким образом лучше очертить философско-эстетическое значение и содержание, а также выявить потенциальный интерес для современных исследований. Значимым также может оказаться междисциплинарный характер явления гения места, смысл которого раскрывается на уровнях культуры, философии, эстетики, архитектуры и «жительствования» (Heidegger, Kolesnikova, 2020) одновременно. Развитие этой идеи имеет теоретический характер, но в силу своей многоуровневости способно послужить источником в образовательной или просветительской деятельности, а благодаря близости современным тенденциям архитектуры и градостроения – иметь практический смысл.
Если представить жизнь человека как поезд, в котором он на скорости несется к конечной точке путешествия, то пейзажи за окном могут быть восприняты как возможные впечатления. Человек может забыть о том, что сидит в купе, и предаться воспоминаниям, бессмысленно глядя в окно. Но представим, что одна из смазанных картинок вдруг привлекла его внимание. Нарушив его размеренное внутреннее состояние, она заставляет человека сфокусироваться на том, что позвало за окном. Но этого оказывается недостаточно – и вот человек срывается с места и выходит на первой же станции.
Представим также человека, который большую часть жизни провел, работая в полях у железной дороги, и, наблюдая за проходящими мимо поездами, много воображал, как окажется в одном из таких поездов и пронесется мимо знакомых ему полей. Поезда здесь не останавливались, и человек стал относиться к ним как к части занимаемого им пространства. Но, предположим, однажды поезд останавливается – и вот пораженный нарушенным порядком вещей, человек, работавший у железной дороги, срывается с места и запрыгивает в первый вагон этого поезда.
А теперь представим, что это был один и тот же человек.
Такое простое, но наглядное в своей сущности описание хорошо отражает основные особенности переживания человеком пространства, которое он устанавливает для себя в форме значимых для него фактов, часто исключая лишние чувства и мысли, и задает условия для возможного проникновения в повседневную реальность genius loci . Если значимость фактов определяется условиями и направлением жизни, в пределах которых множественность чувств и мыслей кажется излишней, – это, в свою очередь, сужает пространство до эпизодов, наложенных на ту или иную его конкретную часть, формируя собственную, очень замкнутую в самой себе карту мира, то для проявления сущности гения места требуется что-то необыкновенное. И целью данной работы мы ставим выявление сущности этого необыкновенного, а также описание форм его проявления в повседневной жизни.
Для достижения поставленной цели обратимся прежде всего к работам норвежского архитектора К. Норберг-Шульца как наиболее яркого представителя в области genius loci , идеи которого повлияли на множество исследователей и воспитали выдающихся архитекторов (Молодкина, 2018). Затем, опираясь на разработанное им понятие характера места, сблизим его находки с идеями философа Х.У. Гумбрехта об эффектах присутствия (Гумбрехт, 2006), так как именно на границе их нагляднее всего раскрывается пространственное воплощение genius loci , что, в свою очередь, позволит нам сблизить это понятие и часть эстетики повседневности и показать на их примере, как genius loci может быть описательной конструкцией любого значимого пространства.
Возникнув как красивая метафора, genius loci дошел до нас в основном в художественных произведениях (Кайгородова, 2022) и описаниях. Основной интерес к нему как к философскому понятию начинается с работ М. Хайдеггера, А. Бергсона и других авторов, выводы которых оказали значимое влияние на норвежского архитектора К. Норберг-Шульца (Norberg-Schulz, 1980), исследования которого окончательно сместили акцент с представления о гении места как о прикладной части художественного впечатления на его независимое существование и дали ему новую жизнь в пределах философского знания с помощью введения его в пределы пространств .
Внедрение идеи genius loci в философское понятие пространства как одной из определяющих его восприятие частей: чувственно воспринимаемых, культурных, архетипических, художественных – преобразовало сущность обоих понятий одновременно. Пространство стало осознаваться не только как декорация человеческой жизни, но как самостоятельный постоянно бурлящий организм; genius loci же стал не только обрамлять различные художественные явления природы и искусства, но и сам получил возможность обрамления пространством снаружи и изнутри. Другими словами, между содержанием и формой всякого места проявилась неразрывная взаимосвязь, особенности которой архитектор выразил в понятии «характер места».
Смысл понятия нагляднее всего раскрывается следующим примером. Если взять пространства делового центра и парка, легко обнаружить, что их восприятие человеком будет разным – сам ритм их существования будет отличаться друг от друга. Нацеленный на эффективность, деловой центр будет наполнен практически значимыми объектами повседневности (банк, магазины, офисы), возвышаясь над человеком как авторитет, в то время как нацеленный на отдых и развлечения парк будет максимально приветлив в сочетании открытых частей своего пространства. Если в деловом центре человек будет наиболее сосредоточен и даже закрыт от всего, что может отвлечь его от поставленной цели, то в парке он скорее почувствует себя свободным в движениях и мыслях. Другими словами, он будет по-разному присутствовать в пределах разных мест, поскольку каждое из них будет производить свой эффект. Так, основываясь на идее характера, мы получаем возможность осмысливать всякое пространство с точки зрения его формы и содержания – в том числе и пространство повседневности.
Предложенное немецко-американским философом Х. У. Гумбрехтом, понятие эффектов присутствия (Гумбрехт, 2006), лучше всего отражает ту особенную связь характера и облика места, поскольку включает как сущность, так и следствие эффекта чувственного и телесного ощущения себя и мира вокруг. У этого ощущения есть несколько уровней, которые лучше всего определить как уровни чужого и своего .
На уровне «своего» жизнь строится на монотонности и рутинности изо дня в день повторяемых действий; приуроченностью различных событий к той или иной части суток, месяца, года – пространство, особенно городское, представленное длинными и узкими улицами, площадями, особым расположением зданий и дорог, задающих ритм и настроение человеческой жизни. Человек на этом уровне строит свою повседневность, неразрывно сплетаясь с определяющим его пространством, но любое изменение его делает ощущение пространства «чужим».
Важную роль в этом процессе играет производство присутствия (Norberg-Schulz, 1980) – сила, производящая присутствие, проявляемое в виде события, мысли или действия, которое влияет на человека, усиливая в нем ощущение реальности и погружая в нее. В процессе производства присутствия пространство, ранее существовавшее лишь в самом себе, выходит за свои пределы и становится чем-то большим, в то время как присутствующий в нем теряет власть над собственным мироощущением и оказывается беззащитным перед овладевшей им реальностью, другими словами, вместо привычного контроля над миром вокруг вынужденно подчиняет свои мысли и действия тому, что ему диктует новая реальность.
Эффект присутствия, или, следуя заветам Х.У. Гумбрехта, эффекты присутствия есть важная часть эстетического переживания, поскольку в процессе его наиболее полно находят свое отражение основополагающие условия ощущения присутствия: заряженность энергией и внезапность появления. Заметим, что присутствие возможно лишь в эстетическом переживании, поскольку, в отличие от эстетического опыта, оно наиболее интенсивно ощущается и этим выделяется среди прочих явлений повседневного, т. е. привычного для восприятия мира.
Сущность эффектов присутствия близка сущности genius loci и в контексте ощущения реальности помогает понять формирующую genius loci взаимосвязь уровней genius и loci как разворачивающийся здесь и сейчас процесс присутствия. В то время как loci предлагает начальный опыт идентификации вещи и субъекта (Norberg-Schulz, 1993), уровень genius задает пространственные ориентиры, устанавливающие уникальность конкретного места. Однако при необходимости их опыт может быть использован повторно, при понимании какого-либо другого места.
Используя понятия «идентификация» и «ориентация», К. Норберг-Шульц так описывает процесс познания мира: идентификация наполняющих пространство вещей с помощью чувственного их осознания в мире задает начальное ощущение пространства и закладывает основы будущего взаимодействия с ним (Norberg-Schulz, 1993). Когда ребенок начинает отграничивать себя от предметов и людей окружающего мира, он получает первые навыки ориентации с точки зрения «я / они» (в сущности, то же, что «свой», «чужой»). Ориентация и идентификация необходимы одновременно: без ощущения себя невозможна начальная ориентация как без навыков ориентации невозможно ощущение себя – отсутствие какой-либо части затрудняет дальнейшее становление действительности мира или даже делает невозможным переживание реальности в нем.
Идентификация и ориентация, как мы видим, напрямую связаны с частями genius и loci , т. е. с субъектом и местом, и всякое присутствие строится на взаимодействии их. Ориентация позволяет субъекту понять, где он находится, идентификация – осмыслить, для чего и в какой роли он присутствует здесь. Однако если для ориентации достаточно просто представить место без необходимости переживать его (и следствием этого становится повседневное пространство, вобранное в разум субъекта и во многом определенное его условиями и направлением жизни), то идентификация без переживания места невозможна (и, как следствие, порождается лишь им), поскольку быстро сменяется чувством отчужденности или потерянности. (В настоящее время проблема отчужденности и потерянности вышла и за пределы больших городов и стала особенно актуальной: люди все чаще задаются не вопросами «как?» или «что?», близкими сфере ориентации, но «почему?» и «зачем?», затрагивающими роль и личность субъекта, задающего их.) Таким образом, genius loci создает на уровне своих частей особую область смыслов – она составляет значительную часть повседневного мира и во многом определяет его.
Говоря о пространстве повседневности, мы имеем в виду одновременно весь окружающий мир (поскольку при необходимости он также может быть каким-либо образом замкнут) и замкнутое каким-либо образом место – с той оговоркой, что пространство это обязательно воспринимает человек, который живет или работает в нем. Особенность такого понимания пространства обусловлена тем, что при восприятии его заинтересованным субъектом можно наблюдать одновременное его становление и наполнение смыслом. Так, оглядывая комнату, которую, несомненно, можно приравнять к одной из форм воплощения пространства повседневности, производящий это действие субъект занимает некоторую часть данного пространства и осматривает его с точки зрения своего присутствия в нем, находясь под его влиянием (так, если субъект решит сменить занимаемое в данной комнате место на другое, с новой позиции он может воспринять пространство по-новому) и влияя на реальность его существования своим бытием (так, он может видоизменить или преобразовать занимаемое им пространство и передать это знание другому, что затронет его изначальную суть).
Протекающий в подобном виде процесс приводит к взаимосвязи внешнего мира и внутренних установок и порождает возможность появления разного рода раздражителей, которые, в свою очередь, приближают на низшем уровне вероятность возникновения эффекта присутствия. Более того, такой подход позволяет сделать вывод о наличии других, вероятно, иначе сконструированных реальностей, часть пространства в которых занимают другие существа, но которые также доступны для восприятия посредством личного – пусть и не без оговорок (основная будет заключаться в том, что в связи с различным опытом ориентации и идентификации одно пространство не может быть понято всеми одинаково и будет определяться набором субъективных переживаний) – переживания и наблюдения, а значит, и о возможности множественных эффектов присутствия.
Допуская существование множества эффектов присутствия, мы допускаем также необходимость их уникальности, которая может быть представлена с позиций существующей в пространстве особой атмосферы, при описании которой чаще всего и используется одно из значений genius loci . Философский концепт «гений места» ( genius loci ), таким образом, проявляется в смещении с уровня субъекта, на котором освоенное пространство, каким бывает обычно пространство повседневности, воспринимается как список обжитых мест, с помощью которых человек машинально идентифицирует себя и этим обеспечивает себе постоянную роль в знакомом мире (например, он идентифицирует себя по полу, нации, профессии, области интересов и т. п.), на уровень смыслов, где к понятиям идентификации и ориентации присоединяется необходимость постоянного приращения смыслов, связь которых и формирует понятие атмосферы. Если на первом уровне в сознании субъекта складывается особое представление о занимаемом им пространстве, которое он как бы подчинил себе, то второй уровень оказывается доступным для осмысления лишь особому взгляду, нередко незнакомому ранее с данным пространством, поскольку позволяет прикоснуться к пространству, лишь оставаясь на его границе – не становясь его условием и не будучи его порождением.
В осмыслении пространств повседневности атмосфера имеет наиболее интересное для нас значение, поскольку если, как мы предположили и показали, каждое пространство обладает собственным характером, то оно уже уникально в том смысле, что содержит отличные друг от друга начальные основы ориентации и идентификации, воплощающие собой те или иные черты образующего это место характера. Следовательно, первое столкновение порожденного другим пространством субъекта, если оно случайно (ведь субъект может также быть подготовлен ко встрече с ним), будет сопровождаться ранее не знакомым ему всплеском переживания, в процессе которого вызовет эмоциональное пробуждение, т. е. вырвет из замкнутого и машинального восприятия реальности, и сделает его участником разворачивающегося присутствия. Или, другими словами, максимально обеспечит возникновение эффекта присутствия.
Genius loci , таким образом, становится высшим проявлением эффектов присутствия, возможным лишь при насыщенности ими пространства, в котором они разворачиваются – той особой наполненности пространства, сила которого так велика, что каждый раз нарушает повседневность посредством яркого чувственно-эмоционального переживания заключенных в нем событий и вещей. Однажды испытав его, человек может стремиться к нему снова и снова, а не имея возможности повторить, даже попытаться искусственно его создать.
В контексте сказанного оправданно заметить, что в пределах особых художественно-исторических пространств и явлений, произведений искусства genius loci как раз и проявляет наибольший смысл, будучи частью их ауры или атмосферы. Однако заметим, что мы живем в мире, где личное знание, как и личный опыт переживания, играет наиболее важную роль, часто позволяя субъективному возвышаться над объективным пониманием. И то, что для кого-то имеет смысл, другому может быть безразлично, а значит, не в силах произвести эффект на него.
Например, при походе в театр, особенно имеющий статус и мифологию, мы нередко обращаемся к традиции, предписывающей определенную культуру речи, внешности и поведения и позволяющей нам при следовании ей ощутить себя частью этого пространства и соприсутствовать в нем (т. е. ощущать соприкосновение и соприсутствие с теми, кто, как правило, лично значимый для нас, был здесь раньше и находится с нами сейчас). Показательно, что многие театры стараются поддерживать уникальность пространственной атмосферы с помощью декораций, украшений и даже таких предметов обихода, как сделанные под старину чашки, салфетки или тарелки в буфете. И в то же время мы можем ничего не ощущать: «Вот, например, мемориальная доска. Я подошел. На ней написано: здесь жил какой-то великий генерал. И что? Я должен, видимо, посмотреть в энциклопедии, где он воевал и за кого» (Учитель, 2020, с. 142). «Это просто имена, за ними должно ведь что-то стоять» (Учитель, 2020, с. 143).
Основное значение genius loci в пространстве повседневности для «своих » , таким образом, сводится к его способности посредством встряски и выхода из пределов машинально воспринимаемого пространства (т. е. лично установленного и без изменений воспринимаемого изо дня в день) придавать восприятию человеком повседневной жизни новый смысл, который, оставляя отпечаток в пространстве в виде новых мыслей, историй, ассоциаций, явлений, вещей, может в свою очередь преобразить повседневность других. Недаром в настоящее время играют важную роль практики лэндарта, инсталляции, энвайронмента и музейной деятельности – это и многое другое позволяет возвысить отдельную вещь или сформировать к ней особое отношение, т. е. поменять местами роль присутствующего и присутствуемого, что и является одним из условий возникновения эффектов присутствия, а с ними и genius loci .
Одновременно с этим пространство повседневности, знакомое и нередко малоинтересное для «своих», поскольку обусловлено лишь повседневной жизнью и представляет собой «ментальные карты, на которых представлены только те элементы, которые задействованы в обыденных практиках» (Бурлина, Иливицкая, Барабошина, 2017) для «чужих» может быть наполнено явлениями genius loci и производить множество эффектов присутствия. Так, чем более повседневным окажется пространство, тем более отражающим присущую лишь этому месту атмосферу и ритм оно может быть – «чужими» оно будет восприниматься особенно интересным и уникальным: «…в определенный момент в определенном месте появляются монахини в серых одеяниях, где-то до какого-то часа сидит бездомный, в определенный момент он уходит и т. д.» (Учитель, 2020, с. 148) Таким образом, можно сделать вывод, что гений места, проявляемый в повседневной жизни, может производить присутствие столь же, а то и более ярко, чем какое-либо общепризнанное художественно-историческое пространство.
Список литературы Genius loci в эстетике повседневности
- Бурлина Е. Я., Иливицкая Л. Г., Барабошина Н. В. Ключи от города: хронотопия и хронотипия // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 19. № 4. С. 67.
- Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: чего не может передать значение / Пер. с англ. С. Зенкина. М., 2006. 184 с.
- Кайгородова В. С. Эстетическое воплощение genius loci в образе усадьбы // Общество: философия, история, культура. 2022. № 7. С. 54-59. https://doi.Org/10.24158/fik.2022.7.8.
- Костина О. В. Онтологические аспекты атмосферы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19. № 2. С. 140 https://doi: 10.18500/1819-7671-2019-19-2-140-144.
- Молодкина Л. В. Философский смысл архитектурного произведения как места // Социально-гуманитарное обозрение. 2018. № 3. С. 27-30. https://doi: 10.24411/2346-8408-2018-10004.
- Учитель К. А. Гений места: Опыты взаимодействия // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2020. № 2. С. 141-155. https://doi: 10.35852/2588-0144-2020-2-141 -155.
- Heidegger M., Kolesnikova D. Building, Dwelling, Thinking // Journal of Frontier Studies. 2020. Т. 5. № 1 (5). C. 157-173. https://doi.org/10.46539/jfs.2020.1.157173.
- Norberg-Schulz C. Architecture: Presence, Language, Place. Milan, 2000. 372 p.
- Norberg-Schulz C. Concept of Dwelling. New York, 1993. 140 p.
- Norberg-Schulz C. Existence, Space and Architecture. London, 1974. 120 p.
- Norberg-Schulz C. Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture. New York, 1980. 216 p.