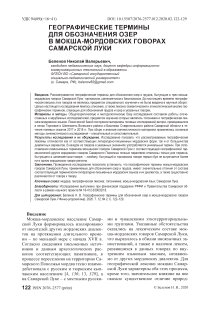Географические термины для обозначения озер в мокша-мордовских говорах Cамарской Луки
Автор: Беленов Николай Валерьевич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Рассматриваются географические термины для обозначения озер и прудов, бытующие в трех мокша-мордовских говорах Самарской Луки: торновском, шелехметском и бахиловском. До настоящего времени географическая лексика этих говоров не являлась предметом специального изучения и не была введена в научный оборот. Целью настоящего исследования явилось описание, а также лексико-семантический и этимологический анализ географических терминов, служащих для обозначения прудов и озер в указанных говорах. Материалы и методы. Общетеоретическую и методологическую базу исследования составили работы отечественных и зарубежных исследователей, предметом изучения которых являлись топонимия и географическая лексика мордовских языков. Лексической базой послужили материалы полевых исследований автора, проводившихся в селах Торновое и Шелехметь Волжского района и Бахилово Ставропольского района Самарской области в течение полевых сезонов 2017 и 2018 гг. При сборе и анализе лингвистического материала применялись основные методы лингвистического исследования - описательный и сопоставительный. Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показало, что рассматриваемые географические лексемы отличаются как от соответствующих литературно-письменных мордовских форм, так и от большинства диалектных вариантов. В каждом из говоров в указанных значениях употребляется уникальный термин. При сопоставлении лимнонимных терминов мокшанских говоров Самарской Луки с соответствующей географической терминологией других мордовских говоров Самарского Поволжья полные параллели отмечены только для термина, бытующего в шелехметском говоре, - пандалу, бытующий в торновском говоре термин буа не встречается более ни в одном мордовском говоре региона. Заключение. Проведенное исследование позволило установить, что географические термины мокша-мордовских говоров Самарской Луки, применяемые для обозначения озер и прудов, имеют значительные отличия от состава соответствующей терминологии литературно-письменных мордовских языков и их диалектов, а также существенно различаются от говора к говору.
Мордва, географическая лексика, топонимика, мокша-мордовский язык, самарская лука
Короткий адрес: https://sciup.org/147217972
IDR: 147217972 | УДК: 94(09)(=16=41) | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.02.122-129
Текст научной статьи Географические термины для обозначения озер в мокша-мордовских говорах Cамарской Луки
Мокша-мордовское население Самарской Луки формировалось изолированно от носителей других мордовских диалектов на протяжении длительного времени – по меньшей мере с начала XVII в. Согласно сведениям письменных источников и данным археологических раскопок соответствующих памятников, в процессе переселения на территорию Самарского Поволжья мордва тесно взаимодействовала с русским и тюркским кыпчакским населением [4, 136; 13, 329], а на Самарской Луке – с местными русски- ми и чувашскими этнотерриториальны-ми группами. Указанные обстоятельства сказались на лексическом составе мокша-мордовских говоров Самарской Луки, что выразилось в обилии иноязычных заимствований, а также в наличии лексем, развившихся в данных говорах по внутренним языковым законам, независимо от других мордовских диалектов. Для географической лексики мокшан Самарской Луки характерны оба этих процесса, кроме того, значительное влияние на нее оказало существенное отличие природ- но-географических условий полуострова от таковых на исконных территориях расселения мордвы. Данное влияние шло по трем направлениям: мокша-мордовские географические термины изменяли семантику для более точного соответствия изменившимся природно-географическим реалиям; для обозначения неизвестных ранее форм ландшафта и природных явлений мокшанами заимствовались географические термины из русского и тюркских языков; в среде мокша-мордовского населения Самарской Луки вырабатывались новые географические термины, бытующие только среди мордовского населения полуострова или лишь в одном из его говоров.
Необходимо особо отметить процесс сохранения в изолированных и периферийных диалектах ряда языковых явлений, исчезнувших либо значительно эволюционировавших в литературнописьменном языке и его центральных диалектах, который также нашел отражение в мокша-мордовских говорах Самарской Луки.
Обзор литературы
Отдельные описания мокша-мордовских сел Самарской Луки содержатся уже в отчетах академических экспедиций XVIII в., в частности П. С. Палласом подробно описан мордовский свадебный обряд в д. Шелехметь [17].
История и этнографические особенности мордвы Самарской Луки, не будучи специальным предметом исследования, получили частичное освещение в трудах А. А. Гераклитова [6], Н. М. Малковой [9], Ю. К. Рощевского1, Ю. Н. Смирнова и др. [12].
Мордовская топонимия и географическая терминология мордвы неоднократно становились объектом исследования, прежде всего в работах И. К. Инжевато-ва2, М. В. Мосина [10], Д. В. Цыганкина3, Х. Паасонена4, однако соответствующее
PHILOLOGY
изучение географической терминологии мокша-мордовских говоров Самарской Луки не проводилось, что и обусловило актуальность настоящей работы.
Материалы и методы
Лексический материал для исследования собирался во время экспедиций 2017– 2018 гг., в ходе которых использовался полевой метод сбора данных. Географические названия и географическая лексика фиксировались по методике, предложенной Г. М. Кертом для финно-угорских языков [7]. Работы в с. Торновом Волжского района Самарской области проводились в августе 2017 г. и в сентябре 2018 г.; в с. Шелехметь того же района – в июле – октябре 2018 г.; в с. Бахилово Ставропольского района Самарской области – в сентябре – декабре 2018 г.
При интерпретации собранных данных использовался этимологический и семантический анализ, привлекались материалы как указанных мокша-мордовских говоров Самарской Луки, так и других мордовских говоров региона, исследование которых проводилось автором в 2018– 2019 гг. В процессе анализа географической терминологии изучаемых говоров рассматривалась соответствующая терминология, бытующая в других мордовских диалектах, при необходимости к этимологии привлекались данные других языков, прежде всего уральских.
В ходе полевых исследований 2017– 2018 гг. в рамках реализации проекта «Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки» (грант № 18-412-630002/18) на Самарской Луке нами были выделены три мокша-мордовских говора: торновский (бытующий в с. Торновом Волжского района Самарской области), шелехметский (в с. Шелехметь Волжского района Самарской области), ба-хиловский (в с. Бахилово Ставропольского района Самарской области, ранее распространялся также на п. Бахилова Поляна), различия между которыми лежат главным
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ образом в области лексики. По ряду фонетических, акцентологических и лексических характеристик они отличаются от остальных известных диалектов мокша-мордовского языка, демонстрируя наибольшую близость с говорами смешанного диалекта этого языка, выделенного А. П. Феоктистовым [15]. Однако значительное своеобразие самаролукских мокшанских говоров не позволяет безоговорочно включить их в данную диалектную группу.
Бахиловский, торновский и шелехмет-ский говоры имеют следующие общие черты, отличающие их от литературнописьменного мокша-мордовского языка:
– добавление гласного в конце слова (часто именно на него приходится ударение): пиземе вместо пизем , шимоне вместо шимонь , нумэлэ вместо нумол и т. д.;
– непостоянное озвончение начальных п , т , к : боза вместо поза , но тува , а не дува , куй , а не гуй и т. д.;
– переход гласных а/я в е/э , е/э в и в любой части слова: пре вместо пря , паксе вместо пакся , ледьма вместо лядьма ; кили вместо кели , видь вместо ведь , килу вместо келу , ви вместо ве и т. д.;
– непалатализованный с в анлауте слов: сувль вместо сиволь , сэвомс вместо сявомс , сынь вместо синем [3].
Форма лексем, отражающих первую особенность мокша-мордовских говоров Самарской Луки, свойственна эрзя-мордовским диалектам, в ряде случаев она совпадает с литературно-письменными эрзя-мордовскими формами, отличаясь от них акцентологически: в мокшанских говорах Самарской Луки ударение падает преимущественно на последний слог.
Относительно второй особенности надо отметить, что озвончение указанных согласных в рассматриваемых говорах происходит независимо от того, какие гласные или согласные звуки предшествуют им в потоке разговорной речи.
Последние две особенности в целом характерны для смешанного диалекта мокша-мордовского языка; кроме того, указанные переходы гласных встречаются также в юго-восточном диалекте мокша-мордовского языка, выделенного А. П. Феоктистовым [8; 15].
5 См.: Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. Т. 1. А – Б. Йошкар-Ола, 1979. С. 125.
124 Финно–угорский мир. Том 12, № 2. 2020
Результаты исследования и их обсуждение
В ряду географических терминов, бытующих в самаролукских говорах мокша-мордовского языка, выделяются лексемы, обозначающие понятия «озеро» и «пруд». В каждом из трех говоров выработались свои термины для обозначения данных объектов, при этом общемордовский термин для обозначения озера (мокша-мордовский эрьхке , эрзя-мордовский эрьке ) также известен мордовскому населению Самарской Луки. Однако в каждом из говоров он стал более узкоспециализированным и практически не участвует в топоге-незе. Так, нам удалось записать лишь один топоним, содержащий данный термин, – Эрьхке-панда ‘Озерная гора’ – в окрестностях Торнового. В настоящее время он используется редко, потому что озеро, располагавшееся некогда у подножия горы, пересохло. В речи жителей Торнового его все чаще заменяет другое название возвышенности – «Немецкая гора», обусловленное тем, что на ней в 40-х гг. ХХ столетия пленными немцами добывался доломит.
В шелехметском говоре термин эрьхке употребляется для обозначения лишь определенного типа объектов: мочажин округлой формы, остающихся в лугах после весеннего половодья [2].
Представляется интересным горномарийский географический термин äр ‘лужа после весеннего разлива’, упоминаемый Ф. И. Гордеевым. Впрочем, исследователь считал неправильным этимологически сопоставлять этот термин с мордовским эрьхке/эрьке и с осторожностью рассматривал его в одном ряду с лексемами из других уральских языков: ненецким ёря ‘глубокий, глубоко’ и мансийским ари ‘река’5.
Ниже последовательно приведены географические термины для обозначения прудов и озер в торновском, шелехмет-ском и бахиловском говорах мокша-мордовского языка.
Буа. Данным термином в торновском говоре обозначаются небольшие пруды, вырытые жителями Торнового на приусадебных участках в хозяйственных целях. Термин зафиксирован нами в составе топонимов Бибин Буа, Васька Буа, Пане Буа, где первую часть составляет антропоним – имя, фамилия или уличное прозвище человека, вырывшего пруд. Термин характерен только для торновского говора, в бахиловском говоре он неизвестен, а жители Шелехмети знают его как «торнов-ский» и в топогенезе не используют.
В связи с отсутствием подобных гидронимических терминов в иных мордовских диалектах и говорах обратимся к аналогиям в других уральских и алтайских языках.
О. П. Терентьева на материалах гидронимии Ветлужско-Вятского междуречья выделяет термин би/бу как в качестве самостоятельной лексемы, так и в качестве топоформанта. Исследователь, указывая, что в самодийских языках слово бу означает ‘вода’ и что в географических названиях оно может выступать в значении ‘река’, полагает, что на территории исследуемого региона данный формант является одним из древнейших [14, 12 ].
В контексте этнической истории мордвы Самарской Луки перспективно, на наш взгляд, рассмотреть связь термина буа с распространенным в кыпчакских языках обозначением плотины – буйэ . Примеры названий прудов, содержащих данный термин, а также пути его эволюции в кыпчакских языках представлены в работах Р. А. Ахметьянова6 и Р. З. Шакурова [16]. При этом необходимо отметить семантическое несоответствие в гипотезе о тюркском происхождении рассматриваемого географического термина: объекты, обозначаемые в торновском говоре буа , являются рытыми прудами и плотин не имеют.
Данное несоответствие заставляет продолжить поиск альтернативных вариантов этимологизации термина. Интересно, что М. В. Мосин выделяет в мордовской то-
PHILOLOGY
понимии термин бие/буе , который он связывает с отражением родоплеменных отношений у мордвы [10]. Учитывая, что в Торновом названия прудов обязательно включают в себя антропоним, подобное этимологическое решение на данном этапе исследования представляется нам наиболее перспективным.
Пандалу. Это общее название для озер и прудов в шелехметском говоре. В составе топонимов данный термин нами не зафиксирован: лимнонимы окрестностей Шелехмети в отличие от торновских и ба-хиловских вообще не содержат апелля-тивов. Как представляется, географическая лексема пандалу могла возникнуть в шелехметском говоре в результате адаптации географической лексики к природно-географическим особенностям окрестностей села. Озера здесь представляют собой старицы волжских рукавов и имеют различный возраст. Наиболее древние расположены непосредственно под Жигулевскими горами и официально называются Клюквенными озерами, местным же населением именуются «Болота»7. Более «молодые» озера находятся между современным селом и волжским руслом – они появились в результате изменения направления течения основного потока воды в Волге в середине XVII в., когда русло реки сместилось на восток, к Самаре. Из-за особенностей расположения озер у подножия гор, по-видимому, в шелехметском говоре и выработался термин пандалу : панда + алу = ‘гора’ + ‘вниз; книзу’, т. е. ‘подгорье’.
Отдельно стоит отметить, что подобные географические термины известны также в ряде эрзя-мордовских говоров Самарского Заволжья: в коноваловском говоре пандалу – ‘пруд’, в клявлинском пан-далкс – ‘река’8, в мордовоселитьбинском пандалкс – ‘река’9.
Объединяющим признаком всех мордовских говоров региона, в которых фиксируются термины пандалу/пандалкс при-
№ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ менительно к водоемам, является тот факт, что все они бытуют в селах, чье основание относится к периоду ранее XVIII в.: Ше-лехметь (первое упоминание в 1639 г.), Старые Сосны (1678 г.), Коноваловка (первая половина XVII в.), Мордовская Селитьба (первое упоминание в 1699 г.). В мордовских говорах сел региона, основанных в начале XVIII в. и позднее, данные термины не фиксируются.
Кура. Согласно нашим полевым исследованиям, в бахиловском говоре так обозначается озеро или пруд10. Термин зафиксирован в ряде топонимов: Алкурай кереметь – часть современной улицы Советской в Бахилове; Веркурай кереметь – другая часть улицы Советской; Пачка-райка – пруд в окрестностях Бахилова. В мордовских, а также в других финноугорских, восточнославянских, балтских и тюркских языках имеются многочисленные лексические параллели термина кура , которые группируются по двум семантическим кластерам: гидронимическому и урбонимическому. Как представляется, в финно-угорских языках обе группы терминов восходят к общей праформе * kur со значением общности, собирательно-сти11. Таким образом, термин кура в ба-хиловском говоре мокша-мордовского языка мог формироваться двумя путями: от архаичной гидронимической основы кур/кар , выделяемой рядом исследователей в финно-угорской гидронимии Центральной России, с вероятным значением ‘озеро’ [1; 11]; от распространенных в ряде мордовских диалектов лексем, обозначающих различные части села: кура, куринка – ‘улица’ (с широким спектром дополнительных значений в эрзя-мордовских говорах Самарского Заволжья), кура, куро – ‘выселок; часть села’12.
Также надо отметить, что лексема куря фиксируется в названиях мордовских населенных пунктов еще в начале XVII в., причем и здесь она встречается в составе как ойконимов, так и гидронимов. Это оставляет вопрос о первичной семантике открытым [5].
Вероятно, в бахиловском говоре термин кура изменил семантику с урбони-мической на гидронимическую. В пользу данного предположения можно привести следующие аргументы: топонимы, содержащие термин кура в Бахилове, часто приурочены к улицам села; в с. Старая Бина-радка Красноярского района Самарской области, значительную часть мордовского населения которого составили переселенцы из Бахилова и Бахиловой Поляны, перебравшиеся через Волгу в первой половине XVIII в., бытует термин куре со значением ‘деревня, село’, например в составе топонимов Вере-куре – ‘Верх села’, Кунчка-куре – ‘Центр (середина) села’. Вместе с тем нельзя исключать, что семантическому переходу по линии «улица – пруд» в бахиловском говоре могло способствовать и бытовавшее в нем на каком-то историческом этапе гидронимическое значение данного термина.
Заключение
Из рассмотренных в настоящей работе географических терминов мокша-мордовских говоров Самарской Луки только один имеет полные параллели в географической терминологии других мордовских говоров Самарского Поволжья – это термин пан-далу , бытующий в шелехметском говоре. Он фиксируется также в ряде эрзянских говоров Самарского Заволжья. Бахилов-ский термин кура встречается в большинстве эрзя-мордовских говоров Самарского Заволжья, однако ни в одном из них он не употребляется в значении ‘озеро; пруд’. Географический термин буа в Самарском Поволжье известен только в торновском говоре мокша-мордовского языка.
Проведенное исследование позволило установить, что географические термины мокша-мордовских говоров Самарской Луки, применяемые для обозначения озер и прудов, имеют значительные отличия от состава соответствующей терминологии литературно-письменных мордовских языков и их диалектов, а также существен- но различаются от говора к говору. Причины подобного разнообразия рассматриваемых терминов различны. Их истоки, насколько можно судить на настоящем этапе исследования, лежат в архаике географической лексики мордовских языков и в иноязычной географической терминологии, с носителями которой мордовское население Самарской Луки активно контактировало в силу этноисторических обстоятельств формирования. На географическую лексику мокшанских говоров полуострова оказали влияние также процессы адаптации географической терминологии их носителей к изменившимся в связи со сменой ареала расселения природно-географическим условиям окружающей среды.
Список литературы Географические термины для обозначения озер в мокша-мордовских говорах Cамарской Луки
- Альквист А. Меряне, не меряне // Вопросы языкознания. 2000. № 2. С. 15-35.
- Беленов Н. В. Географическая лексика шелехметского говора мокша-мордовского языка // Финно-угроведение. 2019. № 1. С. 5-9.
- Беленов Н. В. Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки. Самара: Порто-принт, 2018. 200 с.
- Богачев А. В. Самарское краеведение: археологические эпохи. Самара: СМИУ, 2008. 164 с.
- Гераклитов А. А. Алатырская мордва по переписям 1624-1721 гг. Саранск: Мордгиз, 1936. 88 с.
- Гераклитов А. А. Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни мордвы // Журнал Нижне-Волжского института краеведения им. М. Горького. Саратов, 1932. С. 2-12.
- Керт Г. М. Саамская топонимная лексика. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. 179 с.
- Левина М. З. Из истории классификации диалектов мокшанского языка // Финно-угорский мир. 2015. № 3. С. 24-35.
- Малкова Н. М. Материалы по истории и культуре мордвы Самарского края. Самара: Самарское археологическое общество, 2019. 122 с.
- Мосин М. В. Отражение общефинноугор-ской лексики в мордовских географических названиях // Ономастика Поволжья. Саранск, 1976. С. 172-175.
- Рахконен П. Границы распространения ме-ряно-муромских и древнемордовских гидронимов в верховьях Волги и бассейне Оки // Вопросы ономастики. 2012. № 1. С. 5-42.
- Смирнов Ю. Н., Дубман Э. Л., Барашков В. Ф., Артамонова Л. М. Самарская Лука в XVI - начале XX в. Самара: Изд-во СамГУ, 1995. 199 с.
- Сташенков Д. А. Барбашинский могильник на территории города Самары: некоторые итоги изучения и перспективы исследования // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16, № 3. С. 326-329.
- Терентьева О. П. Гидронимы Ветлужско-Вятского междуречья (потамонимы): ав-тореф. дис. ... канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 1994. 19 с.
- Феоктистов А. П. Диалекты мордовских языков // Mordwinisches Wörterbuch. Helsinki, 1990. Bd. l. S. LX-LXXXV
- Шакуров Р. З. Историко-стратиграфиче-ское и ареальное исследование башкирской топонимии Южного Урала и Пред-уралья: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Уфа, 1998. 42 с.
- Pallas P. S. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. Erster Teil. Sankt-Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften, 1771. 504 S.