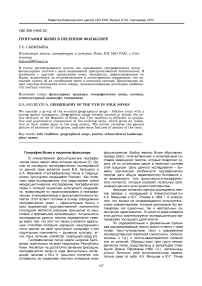География Выми в песенном фольклоре
Автор: Савельева Галина Сергеевна
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 2 (10), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается группа так называемых географических песен - фольклорных текстов с ярко выраженной пространственной компонентой. В сравнении с другими традициями коми, материалы, зафиксированные на Выми, выделяются по количественным и качественным параметрам, что по- зволяет судить об их устойчивом месте в песенной системе. Представлена об- щая картина бытования этого жанра, проанализированы некоторые особенно- сти поэтики текстов.
Фольклорная традиция, географические песни, поэтика, этнокультурный ландшафт, топонимика
Короткий адрес: https://sciup.org/14992525
IDR: 14992525 | УДК: 398
Текст научной статьи География Выми в песенном фольклоре
География Выми в песенном фольклоре
В отечественной фольклористике географические песни имеют свою историю изучения [1]. Одним из последних монографических исследований по данной теме является книга В.Н. Калуцкого и А.А. Ивановой «Географические песни в традиционном культурном ландшафте России». Как отмечают сами исследователи, она представляет собой междисциплинарное исследование географических песен с позиций концепции культурного ландшафта, позволившей их проанализировать в географическом, этнографическом и фольклористических аспектах. Этот аспект положен в основу определения географических песен – «фольклорные тексты с ярко выраженной пространственной компонентой (последняя является сквозным принципом их смысловой и формальной организации)». Актуальность исследования данных текстов определяется прежде всего тем, что этот тип песен считается идеальным способом описания народной («внутренней») точки зрения на свой культурный ландшафт и его структурные компоненты – духовную культуру, этнос, язык, селение, хозяйство, природную среду [2].
Географические песни имели широкое бытование практически на всей территории Республики Коми. Несмотря на достаточно активную фиксацию географических песен в ходе фольклорных экспедиций, начиная с 50-х гг. прошлого столетия, они оставались за пределами научных интересов коми фольклористов. Выбор именно Выми обусловлен, прежде всего, количественным и качественным составом имеющихся текстов, который позволяет судить об их устойчивом месте в песенной системе этой традиции. Цель данного исследования – выявить поэтические особенности географических текстов, дать общую характеристику бытования и, по возможности, того фольклорно-этнографического контекста, который отражает локальную организацию данного культурного пространства.
Фиксация основного корпуса исследуемых текстов связана с экспедицией в Княжпогостский р-н А.К. Микушева и Ю.Г. Рочева в 1964 г. К сожалению, эти записи не сопровождаются исполнительскими комментариями, которые раскрывали бы мотивировку как оценочных, так и нейтральных се-ленческих характеристик. В какой-то мере нехватка этих данных компенсируется экспедиционными материалами последнего десятилетия.
По содержательным и формальным признакам рассматриваемые тексты можно отнести к трем типам: текст-путешествие; текст с современной производственной тематикой (лесопункты, поселки, колхозы и т.д.) и тексты-характеристики селений или их жителей. Образцы всех трех групп географических песен представлены в репертуаре Соке-риной Домны Ефимовны (1895 г.р.), жительницы д.Кони. Личность этой исполнительницы замечательна сама по себе. А.К. Микушев и Ю.Г. Рочев характеризовали ее как мастера импровизации и отмечали, что односельчане называли Домну Ефимовну местным скоморохом («теш карысь») [3, с. 15]. Показательно, что Домна Ефимовна, как местная сказочница, фигурирует и в рассказах современных старожилов.
Песня «Жили-были дед да баб» представляет собой описание пути персонажа, который включает территорию по рекам Елве и Выми до д. Кони: Жили-были дед да баб, Ели каши с молоком. Ва дор кузя ветлэдлі, Посни ёсъяс кыйишті.
Вöре кайи – ылалі,
Сёрд дор кузя мунішті, Чöдлач тусьяс аддзилі. Ыджыднюр вылэ вои,
Ыджыднюрсэ прöдиті, Мырпом тусьяс босьталі.
Джуджыд яг вылэ вои, Джуджыд ягсэ прöдиті, Кыдз пу вылін пукалі, Пожем бокин сулалі, Кузь коз улін шойчишті.
Пегыш- вöлöсьтэ вои,
Рыся шаньга сёйишті. Черман вывті люзьооті,
Куштысьяслі – аддзилі. Сьőдюдорэ бöр косі,
Уна деньга босьтавні. Нивью вомен купайчи,
Есень-пиян аддзилі.
Кышеёин шойчишті, Час-мöд коймöд узишті.
Краснöй тыин вуграси,
Посни чери кыйишті.
Мещураэ ме муні, Мещураын жариті, Мещураын сёйышті, Самöй лёксэ девайті,
Пышъем сорэн леччишті.
Пытыръю дорэ вои, Машинаид лэччема.
Подэн-сорэн мунішті, Лыва туй вывті восьлалі, Ёвдин- вöлöстэ вои,
Тёплоходід кывтэма. Мöдлапöлас вуджишті, Берег кузя лэччишті, Вездін весьтэ ме вои,
По берегу походила, Мелкую рыбу половила. В лес поднялась – заплутала.
По лесу прошлась, Голубику видела.
На Ыджыднюр (букв. большое болото) пришла, Ыджыднюр прошла, Ягоды морошки собирала.
На высокий бор пришла, Высокий бор прошла, На березе посидела, У сосны постояла, Под высокой елью отдохнула.
В Пегыш- волость пришла, Шанег с творогом поела. Через Черман проползла, Куштысёвским – видела.
К Седъюдору обратно вернулась,
Много денег получить. Через Нивью переплыла,
Есень-пиян (починок) видела.
В Кышееве отдохнула, Часа два-три поспала.
В озере Красном порыбачила, Мелких рыбок наловила.
В Мещуру я пошла, В Мещуре пожарила, В Мещуре поела (рыбы), От самой плохой избавилась, В припрыжку спустилась. К Пытыръю пришла, Машина уже уехала. Пешим шагом прошлась, По песчаной дороге, В Евдино- волость пришла, Теплоход уже ушел. На тот берег перешла, По берегу спустилась, Напротив Весляны я оказалась,
Микелалі юрбиті.
Кыньвидз кузя ме локті, Сабри карись аддзилі. Посёлоке прöдиті, Больничаэ пыралі.
/ Имеется ввиду п. Ветью Кыдздін- вöлöстэ вои,
Бензин бакъяс аддзилі.
Лек няськи кей восьлалі, Вутшъяс инті шаглалі. Сондыс кузя ме локті, Мöс видзисьяс аддзилі.
Вей Кониті прöдиті,
Куимлаин гöститі. Кир- вöлöсьтэд ме локті, Мырпом тусен вердісні. Ягшöр- вöлöсьтö вои,
Лавка дорэ ме сувті,
Деньга менам бырема, лись, Сто грамм босьтні нинэмен. Сто грамм купить не на что.
Сьылöм вылö – по рублю [4]. За пение – по рублю.
Данный тип географических песен представлен одним вариантом. Немногочисленность подобных песен и в русских традициях отмечают В.Н. Ка-луцков и А.А. Иванова. Исследователи относят их к типу «туристического перемещения», отличительной особенностью которого является внешнее (туристическое) видение культурного ландшафта. Подобные тексты отражают «реальный жизненный опыт физического перемещения в пространстве с определенными целями (торговыми – купцы, профессиональными – плотогоны, бурлаки, семейными, праздничными – крестьяне и т.д.)» [3, с. 46]. В случае с песней «Жили-были дед да баб» можно отметить высокую степень информированности исполнительницы об особенностях данной территории и значимости отдельных географических объектов, прежде всего, в хозяйственно-бытовой деятельности этого межселенческого куста. Обращает на себя внимание подробность описания маршрута, обилие названий микролокальной топографии – починки, сенокосные угодья, луга, водные объекты: Черман, Есень-пиян, Кышеево, Красное озеро, Кыньвидз, Сондыса. Детальное знание местности во многом связано с особенностями хозяй-
ственного уклада, а именно с междеревенским распределением сенокосных угодий, которые располагались в верховьях Выми и по р. Елве [4]. При этом особую разработанность получает топография «своей» для исполнительницы территории – д. Кони, отмечены названия жилых частей: Вей Кони (д. Верхние Кони), Ягшöр (одно из названий д. Средние Кони), Кирорд (д. Киреевская, входила в состав д. Кони), а также Сондыс – ручей и одноименное название луга, являются частью д. Вей Кони. Кроме того, присутствуют объекты, информа-
Миколе помолилась.
По Кыньвидзу я шла, Стога ставящих видела. В поселок пошла, В больницу заходила.
Г.С./
В Кыдздино-волость пришла, Цистерны с бензином видела.
По грязи прошагала, По кочкам перешагивала. Вдоль Сондыса пошла, Пасущих коров видела.
По Верхним Коням прошла, В трех местах погостила. По Кир-волости я шла, Морошкой накормили.
В Ягшэр-волость пришла, У магазина я останови лась, Деньги у меня закончи- ция о которых остается за пределами собственно текста. Отражаясь в свернутом виде, она не допускает однозначной интерпретации, при этом является очевидной для носителей традиции. Так, в строфе «Напротив Весляны я оказалась, Миколе помолилась» речь идет о Веслянской двухэтажной каменной церкви во имя свт. Николая Чудотворца. Как сакральный топографический объект она занимала центральное место в этнокультурной организации пространства Выми. Была первой с верховьев и соответственно последней, если подниматься по реке, в связи с чем наделялась статусом символической границы между хозяйственно-промысловой и селенческой (жилой) территориями. Предмет гордости веслянцев: «Мы всегда еще хвалились. В Конях-то, что это у вас деревянная церковь, я говорю, а у нас вон двухэтажная, за три километра /видно/. /…/ Вот по реке поднимаешься и Весляна далёко сперва церковь видно, белокаменная» [5]. Фигурирует также в мифологических рассказах о нечистой силе, которая могла идти за охотниками только до пределов видимости веслянской церкви [6].
Текст состоит из композиционных звеньев, в каждом из которых географический объект представлен в сочетании с активными действиями персонажа: передвижение в пространстве (поднялась, прошла, посидела – постояла – отдохнула, проползла, переплыла, опять отдохнула и т.д.) и хозяйственно-бытовая деятельность (половила рыбу, собрала морошку, поела шанег, получила деньги, пожарила рыбу, помолилась Миколе, зашла в больницу и т.д.). Помимо того, что героиня является лицом, активно действующим, она может выступать и в качестве стороннего наблюдателя. Ее глазами представлены пейзажи некоторых населенных пунктов и хозяйственная освоенность данной территории: голубику видела, куштысевских на сенокосе видела, делающих снопы видела, пасущих коров видела, цистерны с бензином видела и т.д. Основное содержание песни включено в развлекательно-смеховую канву. С зачинной формулы: Жили-были дед да баб, Ели каши с молоком – задается общий эмоциональный тон повествования, который еще более усиливается в завершении песни – долгий путь заканчивается магазином, где надо купить «сто грамм». Концовка представлена традиционной для обрядовых ситуаций песенной формулой-требованием денежного вознаграждения певицы.
В создании песни «Жили-были дед да баб», как и других из репертуара Д.Е. Сокериной, определяющим является индивидуальное начало. Их содержание основывается как на фольклорном, так и реальном жизненном опыте исполнительницы. Личные ассоциации и связанный с ними образный ряд накладываются на поэтические каноны, заданные самой традицией.
Творческий стиль Д.Е. Сокериной еще ярче проявляется в песне на современную производственную тему. Географическая последовательность топонимов разделяет текст на две части: от д. Куш-тысевки вверх по течению Выми и Елвы до Обдора и от Пегыша вниз по течению до Мещуры. Двучастность текста выделяется с помощью использования одной и той же характеристики «куштысевского колхоза» и «пегышского колхоза».
Куштысь колхоз – дзо-ля колхоз,
Специалист – народыс.
Ягшőр колхоз – вот и колхоз,
Вот и рöвнöправие: Мужики коровы доить, Бабы на собрание.
Кони колхоз – мича колхоз,
Водзин ная мунöні.
Кыдздін колхоз – пятилетка
Пöрысен тыртэмаэсь.
Ветью артель – дона артель,
Гырысь курег видзені. Непöд колхоз – гöра колхоз,
Гöра ная чöвтысні.
Вездін пристань – цен-нöй пристань,
Деньга ная босьтöны. Ёвдін пушник – ценнöй пушник,
Деньга ная оз босьтні. Наста-пия участокын Пым пирогъяс сёені. Вомнőс йирин кер карисьяс
Чöдъя öпар сёені. Куръядорин кер ка-рисьяс
Пувъя юман сёені.
Мешъюраин- посёлокин
Шобді булки сёені.
Ньывъю вылін служа-щейяс
Свежей яйяс сёені.
Войвож дорин сотруд-никъяс
Свежей йöршъяс сёені. Ватлядорин кер ка-рисьяс
Капуля шыд сёені.
Рöдник дорин кер кыс-кысьяс
Кракмал кисель сёені.
Черман вылын служа-щейяс
Сись трескаяс сёені. Кычан-ёлин Миколаяс Чöскид чайяс юöні.
Őбдöр дорин чань вид-зисьяс
Круття да кеняяс да кання .
Пегыш колхоз – дзоля колхоз,
Куштысевский колхоз – маленький колхоз, Народ там – специалисты. Колхоз в Ягшере – вот так колхоз,
Вот и равноправие: Мужики коров доить, Бабы на собрание.
Колхоз в Кони – красивый колхоз, Впереди они идут.
Кыдзьдинский колхоз – пятилетку
С помощью стариков выполнили.
Артель в Ветью – дорогая артель,
Крупных кур содержат. Нефедовский колхоз – горный колхоз, На горе они застоговали.
Веслянская пристань – дорогая,
Они деньги берут за нее. Евдинский пушник – дорогой пушник, Денег они не берут.
На участке Наста-пия Горячие пироги едят.
Лесорубы в Вомнэс йи-ре
Опару с черникой едят. Лесорубы в Курьядоре
Брусничный солод едят. В Мещуре- поселке Пшеничные булки едят.
Служащие в Нивью
Мясо свежее едят.
В Войвоже сотрудники
Свежих ершей едят.
В Ватлядоре лесорубы
Картофельный суп едят. В Роднике лесовозчики
Крахмальный кисель едят.
На Чермане служащие
Гнилую треску едят.
В Кычан-ёле Миколы Вкусные чаи пьют.
В Обдоре пастухи
Круття да кеняяс да кання .
Пегыш колхоз – маленький колхоз,
|
Рыся шаньга сёені. |
Творожные шаньги едят. |
|
Сьöдъюдорин кадре- |
Седъюдорские кадро- |
|
вейяс |
вые |
|
Уна деньга босьтэні. |
Много денег получают. |
|
Нивью вомын Есень- |
В устье Нивью Есень- |
|
пиян |
пиянские |
|
Перловкаяс сёені. |
Перловку едят. |
|
Кышеёын кыдздін кол- |
В Кышеёве кыдздинский |
|
хоз |
колхоз |
|
Шома ырöш юöні. |
Кислый квас пьют. |
|
Висвом дорин канто- |
В Веслянах в канторе |
|
раын Маргаринъяс сёені. |
Маргарин едят. |
|
Куим кыддзан тшуплöй |
В Куим кыддзя щуплый |
|
народ |
народец |
|
Свежей налим сёені. |
Свежего налима едят. |
|
Тикон-пийин Сонок |
В Тихон-пи дети Сонока |
|
пиян Свежей ур яй сёені. |
Свежее беличье мясо |
|
Краснэй тыын – прось- |
едят. В Красном озере – раз- |
|
ливанне, |
долье, |
|
Свежей мыкъяс сёені. |
Свежих ельцов едят. |
|
Мешшураин лесопунктін |
В Мещуре лесопункте |
|
Слаба деньга сетэні. |
Слабо денег дают. |
|
Тшöтоводнас – том кас- |
У счетовода – молодого |
|
сирлэн |
кассира |
|
Киин деньга век абу. |
На руках никогда денег |
|
Лесопунктэн юралысис |
нет. Глава лесопункта |
|
Вöв тыр деньга ыстöма, |
Полные сани денег ото- |
|
По кварталам, участокам, |
слал, По кварталам и участкам, |
|
Челэй недель ветлэма, |
Целую неделю ходил, |
|
Тысячниклы рöбöтниклы |
Работникам тысячникам |
|
Деньгаяс сеталэма. |
Деньги выдавал. |
|
Виччисим ми челэй |
Мы ожидали всю неделю |
|
недель Деньгаяс пöлучитні, |
Деньги получить, |
|
Чайяс пуктім, яйяс пуим, |
Чай вскипятили, мяса |
|
Ставыс миян кöйдалі. |
наварили, Все угощенье у нас сты- |
|
Питирим да Ячеслав |
нет. Питирим и Вячеслав |
|
Вöв тыр деньга вайисні. |
Полные сани денег при- |
|
Ми думайтам сеталасні |
везли. Мы думали дадут |
|
Сотеннэйкатеясэн, |
Сотенками, |
|
Сöмын ная сеталісні |
Они выдали |
|
Десетя кабалаэн. |
Десятирублевыми бу- |
|
Прöшшайччисні – окасисні |
мажками. Прощались – целовались |
|
Миян ичет народкед |
С нашим маленьким на- |
|
Питирим да Ячеслав. |
родом Питирим и Вячеслав. |
|
Николайе юраліс, |
Николай управлял, |
|
Юралісні – бöжалісні, |
Направились – вырулили, |
|
Вöр туй вывті муніні [7]. |
По лесной дороге уехали. |
По своему содержанию данный текст пере- кликается с предшествующим, дополняя нейтральность его зарисовок картинами из жизни местного населения. Обилие географических объектов в сочетании с широким охватом различных социальных слоев определяют содержательную насыщенность данного текста. Значимые для создателя текста фрагменты из жизни колхозников, лесорубов, лесо-возчиков, служащих, конторщиков, кассиров, «кадровых», «тысячников» разворачиваются в полноценный сюжет, в создании которого легко прослеживается стилистика частушки и других шуточноразвлекательных жанров.
Песни «Жили-были дед да баб» и «Куштысь колхоз – дзоля колхоз» записаны в единичных вариантах. Наиболее многочисленную группу представляют географические тексты, построенные по принципу последовательного перечисления селений, каждому из которых дается лаконичное ассоциативное определение. В них фигурируют только традиционные поселения и, как правило, используются местные варианты названий. Для этой группы песен характерно расположение деревень вверх по течению.
В качестве примера приведем еще один текст, записанный от Домны Ефимовны Сокериной:
|
Сереговские – кречаты, |
Сереговские – кречеты, |
|
Коська – кутирима, |
Кошки – кутерьма, |
|
Половники – шыр мыш, |
Половники – спина (горб) мыши, |
|
Князьпогостскэй – бычок, |
Княжпогостские – бычок, |
|
Раковнинскэй – секрэт, |
Раковица – секрет, |
|
Кыркöтш – увтас, |
Кыркещ – низина, |
|
Сьöська – кокол, |
Шошка – хохол, |
|
Тыла – чукчи, |
Отла – глухарь, |
|
Гучерт – крукинь ді, |
Луг – кривой остров, |
|
Куавидзи – конда додь, |
Куавица – сани с сухостоем, |
|
Ыджыд Ыб – пристань, |
Онежье – пристань, |
|
Кöзлорд – школа, |
Козловка – школа, |
|
Туръя – ёс додь, |
Туръя – сани с мелкой рыбой, |
|
Куштысьорд – байдыг, |
Куштысевка – куропатка, |
|
Ягшöр – ком бöчка, |
Средние Кони – бочка хариуса, |
|
Вей Кони – лёль бöчка, |
Верхние Кони – бочка семги, |
|
Весляна – мык бöчка, |
Весляна – бочка ельца, |
|
Ёвдін – трэска бöчка, |
Евдино – бочка трески, |
|
Пегыш – яй бöчка [8]. |
Пегыш – бочка мяса. |
Происхождение деревенских номинаций в отдельных случаях имеет свои объяснения, чаще же приходится лишь предполагать. Так, Сереговские – кречаты, в других вариантах «кречат», «крича», может иметь связь с местной фамилией Кречатов [9]. Отметим, что в географических песнях такой тип обозначения селений является устойчивым, например: д. Оквад – Туркин (местная фамилия, в деревенской топографии есть Турка вад ‘лесное озеро Туркина’), д. Кони – ветöш (от местной фамилии Ве-тошевы), с. Емдін – Тарас [10]. Не исключается возможность рассмотрения слова «крича» как искаженного от русского «кричать» и, соответственно, в связи с названием одной из частей с. Серегова – «шу-миловкой» (связано с деятельностью местного соль-завода, шумное, людное место) [4. С. 53].
Деревня Половники во всех вариантах устойчиво называется «шыр мыш». Версия, объясняю- щая это прозвище, имеется в материалах местного краеведа И.С. Лебедева (немаловажно, что сам он был уроженцем этой деревни): «Жителей деревни Половники дразнили «шыр мышъяс», то есть «мышиные спины». Видимо, от того, что в Половниках было трудное положение с лугами, очень много мелкоконтурных лугов, откуда сено таскали на себе, накладывая его на грабли или обхватывая веревками» [4, с. 58]. В отличие от исторической мотивировки Лебедева в полевых материалах Ю.Г. Рочева это прозвище интерпретировано с точки зрения традиционно негативных представлений о мыши:
Визса – кань зад виле- Княжпогостские – коша-дысь, чий зад обгладывающие,
Кошка – ур яй сёйны Кошки – беличье мясо едящие.
Полоникса – шыр-мыш (неизвестно что, но обидное прозвище) [11].
В этом присловье прозвище Половников продолжает ряд формул, связанных с «нечистой», нечеловеческой пищей. У коми они имели достаточно широкое распространение (ср., например, «устъ-немса – понъюр виледiсьяс» 'усть-немские – собачьи головы обгладывающие' из верхневычегодской традиции) [12], в вычегодско-вымской традиции подобные прозвища связывались с топонимическими легендами о Стефане Пермском и язычниках. Само по себе сочетание «шыр мыш» интересно и в плане этимологической неоднозначности, не исключающей возможности игры слов: шыр ‘мышь’ и русское «мышь».
Характеристики следующих деревень, Оне-жья и Козловки, связаны с общественно значимыми реалиями, такими как пристань и школа. То, что для соседних селений именно школа является самой яркой ассоциацией с д.Козловкой, можно связать с историей школьного двухэтажного здания, хозяином которого изначально был известный вымский купец – Павел Никитович Козлов (Микит Паш).
В основе некоторых определений лежат особенности природного ландшафта. «Гучерт – кру-кинь ді», в вариантах «крукин», «крукля дi» (производные от крук ‘крюк’, крукыль ‘загиб, изгиб’), местные жители связывают с речным изгибом.
Комментариями о том, почему Кыркещ называется «увтас» (низина), мы не располагаем. Уже само по себе значение слова «кыркöтш» ‘крутой обрывистый берег’ предполагает топографическую двойственность и может рассматриваться как ключ к образованию этой лексической пары. Также эта характеристика соответствует действительности по географическим признакам: возвышенности, на которой стоит деревня, предшествует полоса низкого берега.
Определение д. Куавицы «конда додь» может иметь двоякое толкование. Лес рядом с деревней назывался «Конда грива» – конда ‘сухая на корню, крепкая, частослойная боровая сосна’, такая сосна особо ценилась при строительстве домов. С другой стороны, возможно прочтение «конда додь» в значении негативной оценки – неправильные, кондовые сани.
Образ промыслового достатка на Выми и Ел- ве находит свое отражение в характеристиках деревень от Коней до Пегыша. Эта часть выделяется по своей цельности, созданной за счет последовательного перечисления разных пород рыб (мяса в Пегыше) и многократного повтора слова «бочка» с выступающим на первый план значением меры изобилия. Этой характеристике противопоставляется турьинское «ёс додь» (вариант «ёс гу»): «Турья – это «ёс гу». Это потому что здесь плохую, мелкую рыбу – «ёс» ловят. А Кони – там сёмгу ловят, «лёль гöп» (яма с семгой), там яма с сёмгой, а здесь «ёс гу» (яма с мелкой рыбой)» [13]. От д. Кони и выше действительно были хорошие рыбные тони. В фольклорной интерпретации с ними связывается история заселения Выми, а ловля ценных пород рыбы оказывается соотнесенной с празднич- но-календарным кругом и соответственно определяется божьим промыслом. Например, в рассказе, записанном в д. Кони от Александра Федоровича Сокерина (1929 г.р.), говорится о том, что семгу ловили только на Петров день – местный храмовый праздник, а сига на Покров день [14].
Несмотря на то, что в песенном тексте очевидна проекция на реальность, для содержания скорее более важным является обозначение значимого для исполнительницы пространства, которое соответственно наделяется положительными признаками. Не случайно эта часть текста не имеет аналогов среди вариантов, записанных в других вымских селах.
В некоторых географических песнях границы территории могут выходить за пределы Выми: населенные пункты Усть-Вымского, Удорского районов, Ижма, Печора. Иногда в текстах появляются и такие далекие образы, как река Волга и море.
В качестве примера приведем запись, сде- ланную в с. Княжпогост: Был да козёл, На Волге пошел, К Анфисе козе.
Ты йылын бубин, Ты дорын челпан, Аквадін – неляль, Емдінін – чирак, Сереговын – кречат, Коська – кутерма, Половникин – шыр мыш,
Визаобня – бычок, Раковинский – пыркыс, Кыркетш – чишук, Сьöська – кутшей, Тыла – бубин, Ыб – вöлöнтин, Турья – балкон, Кони – Вездін, Вездін и ватас,
Сімдор – кепысь, Изьва – азьва,
В конце озера бубин, У озера коврига, Оквад – неляль, Усть-Вымь – чирок, Сереговские – кречет, Кошки – кутерьма, Половникские – спина мыши, Княжпогост – бычок, Раковинские – пыркыс, Кыркещ – чишук, Шошка – орел, Отла – бубин, Онежье – волонтин, Туръя – балкон, Кони – Весляна, Весляна – речные жители,
Синдор – рукавица, Ижма – кислая похлебка,
Печераын – море, Море пытшкин сир поз,
Сир поз пытшкин ма поз [15].
Печора – море, В море смола (букв. ‘гнездо со смолой’), В смоле мед (букв.‘гнездо меда’).
Благодаря образно-символическому вопло- щению темы пути в зачине и завершении песни расширение пространства приобретает эпический размах. Тождественные по своей семантике образы Волги (символическая территория русской культуры) и моря с выступающим на первый план значением запредельности и пространственной протяженности органично вплетены в сюжетный строй песни. По своей обобщенности к ним примыкают и образы контактных зон Ижмы, Печоры и Удоры (с. Глотово – Слöбöда).
Вымской топографии могут предшествовать нижневычегодские селения (Усть-Вымский р-н) – д. Оквад и с. Усть-Вымь. В некоторых вариантах текста появляются фрагменты, в которых специфичность используемых словоформ определяет возможность двоякого прочтения смыслового содержания зачинных формул:
«...На Волгу пошёл,
Коквидзе пале,
Палевидзе лёжись» – возможно, обыгрывание топонимов Коквицы (Усть-Вымский р-н) и Пале-вицы (Паль, Сыктывдинский р-н)
Или:
«Козел да возел
На лужок пошел,
Кок видзе казел и зелёный» [16] – «видз» в значении ‘луг’, «на зеленый лужок»;
« Ты йылын бубин, В конце озера бубин, Ты дорын чőлпан» У озера коврига;
Или:
« Тыйылын – бубин,
Тыдорын – чőлпан» – д. Тыйыв (Конец-Озерье) и д.Тыдор Усть-Вымского р-на.
На этом фоне географическая определенность и последовательность основной («вымской») части песни приобретает значимую для повышения этнокультурного статуса содержательно-смысловую рельефность.
Нельзя не отметить, что географические песни находятся в тесной взаимосвязи с другими разновидностями прозвищного фольклора. Если говорить о вымской традиции, то для первых свойственна нейтральность (за редким исключением) се-ленческих характеристик. Уже само по себе перечисление топонимов связано с идей организации, упорядочивания и, в конечном итоге, стабильности существования на своей этнической территории. Собственно прозвищное содержание, в котором реализуется межселенческая оппозиция, представлено в иных фольклорных формах: присловьях, прозвищных преданиях, поговорках и т.д. Наделение положительными и отрицательными оценками жителей соответственно «своей» и соседних деревень – их основное функциональное назначение. Например, в присловье, записанном в д. Кони, представлена оценочная антитеза с д. Онежье:
«Кониса – воиса, Кузя-дженида.
Ыб улича – калича,
Конские – открытые (избы), Длинные-короткие (подолы).
Онежская улица – на задвижках,
Быд керкаын ялича. В каждом доме ялича.
У нас пускают в дома, приглашают. В Онежье не пускают. Ыб – это Онежье. «Ялича» – это видимо веревка. «Кузя-дженида» – специально так надевались, чтобы из-под верхней юбки выглядывали кружева» [17].
В Козловке зафиксирована характеристика жителей д. Онежье и с. Турья. Наличие каменных церквей и школ выделяло их среди других поселений, они противопоставлялись по своему жизненному укладу и в оценках соседей наделялись чертами скорее городских, чем деревенских жителей. Их относили к «служащим» и соответственно наделяли чертами бездельников. Ленивость онежских и турьинских нашла отражение в местной поговорке: «Через Онежье рыба прыгает до Козловки, до Ка-тыдпома, а потом через Туръю прыгает рыба до Кони» [18].
В некоторых случаях характеристики населенных пунктов обусловлены процессами семантической верификации. Так, например, при обозначении с. Туръи сюжетообразующим является образ рыбы, который может разворачиваться в разных оценочно-содержательных направлениях: место без рыбы – потому что ленивые (в приведенной выше поговорке); место с мелкой рыбой – не изобильное место, в сравнении с другими селениями (Туръя – ёс додь ‘Туръя – сани с мелкой рыбой’); рыбное место (Туръяса – чери ’Туръинские – рыба’). В географическом тексте, записанном в верхневычегодской традиции (Усть-Куломской р-н), именно Туръя выступает в качестве центра «запредельного» (для вычегодского куста деревень) пространства Выми, которое, в свою очередь, также обозначено как рыбное место: Туръяса – чери, Рыбинной гульба (Туръинские – рыба, Рыбиннöй гульба) [19]. В формульной теме «Туръя – рыбное место» происходит усиление положительного смысла за счет появления русскоязычного дубля – «чери, рыбин-нöй гульбы». Причем этимология «рыбинной гульбы» оказывается взаимосвязанной с вымским вариантом названия д. Онежье – Ыб. В тексте, записанном в д. Отла (Вымь), присутствует, вероятно, исходный вариант этой формулы: «Туръяса – чери, Да Ыбанöй гульба» [20].
Как видно, варианты поэтических реализаций одного и того же центрального образа могут отражать абсолютно разные оценочные характеристики. И немаловажно, что процесс варьирования во многом определен жанрово-функциональной спецификой текстов: ярко выраженная прозвищная семантика в присловье и поговорке и гибкая система топографических характеристик в географических песнях.
Еще один способ трансформаций, характерный для географических песен, связан с возникаю- щими вокруг основного образа звукосмысловыми ассоциациями. Например, еще одним мотивом, определяющим Туръю, является братчина (Туръя – братчин) [21]. Центральным местом этого обрядового комплекса, занимающего устойчивое место в вымском традиционном календаре, является угощение пивом: девушки в сопровождении специальных песен подносят его своим парням. В этом контексте логичен переход к образу бражки (Туръя – бражка) [22], и не только как следствие вторичного осмысления ритуального напитка, но и в результате возможных звукосмысловых ассоциаций (братшина – бращ – бражка). Следующий этап возможных интерпретаций связан уже собственно с фонетическими искажениями – появляется вариант «пряш-ки» (Туръя – пряшка) [23].
Таким образом, сохранившиеся в архивных записях образцы географических песен позволяют говорить о том, что еще в недавнем прошлом они занимали свое устойчивое место в песенной культуре Выми. Каждое произведение не только насыщено географической или этнографической конкретикой, но и автобиографично по своей сути, поскольку исполнитель вкладывает в них свое представление и свои знания о пространстве и времени. В результате тексты географических песен сохраняют главный принцип сюжетообразования, в основе которого лежит последовательное перечисление географических объектов, и при этом наблюдается содержательная вариативность, проявляющаяся главным образом в их характеристиках.
Список литературы География Выми в песенном фольклоре
- Карташова И.Ю., Кругляшова В.П. Из истории русского фольклора (песни о прозвищах)//Фольклор Урала: Фольклор и историческая действительность. Вып.5. Свердловск, 1980. С.105-112
- Иванова А.А. «Географические песни» в фольклорном репертуаре Пинежского р-на//Славянская традиционная культура и современный мир: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 3. М., 1999. С.192-202;
- Дранникова Н.В. Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера: функциональность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. 430 с. и др.
- Калуцков В.Н., Иванова А.А. Географические песни в традиционном культурном ландшафте России. М., 2006. С.5, 15-16.
- Коми народные песни: Вымь и Удора/Сост. А.К. Микушев, П.И. Чисталев, Ю.Г. Рочев. Т. 3. Изд. 2. Сыктывкар, 1995. С.15.
- Вниз по Емве-реке. Записки краеведа-любителя Ивана Степановича Лебедева. Емва, 1995. С.29,37.
- Образцы коми зырянской речи/Сост. Т.И. Жилина, В.А. Сорвачева. Сыктывкар, 1971. C.197-199.
- Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми/Историко-демографический справочник. Сыктывкар, 1994. С.203.
- Ильина И.В., Уляшев О.И., А.-Л. Сиикала. Общедеревенские прозвища населения верхней Вычегды//Сельская Россия: прошлое и настоящее (Исторические судьбы северной деревни). Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Республика Коми, с. Усть-Цильма, 10-13 июля 2006 г.). Москва -Сыктывкар, 2006. С.290.