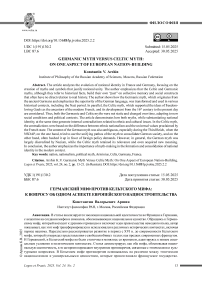Германский миф против Кельтского мифа: к вопросу об одном аспекте европейского нациостроительства
Автор: Аршин К.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется эволюция национальной идентичности во Франции и Германии, с акцентом на создании мифов и символов, обосновывающих национальное единство. Обращаясь к Германскому мифу, который восходит к древним германцам и включает идеи превосходства немецкого языка, автор показывает, как этот миф трансформировался и использовался в различных исторических контекстах, включая период нацизма. Параллельно рассматривается развитие в период с XVI в. до современности Кельтского мифа, который утверждал представления о свободолюбивых галлах как предках современных французов. И Германский, и Кельтский мифы не были статичны и менялись со временем, адаптируясь к новым социальным условиям и политическим контекстам. Статья демонстрирует, как оба мифа, обосновывая национальную идентичность, в то же время порождают внутренние противоречия, связанные с этническими и культурными вопросами. В Кельтском мифе противоречия основывались на различии между этническим национализмом и универсальными ценностями, которые провозглашало французское государство. Неоднозначным было и содержание Германского мифа, особенно в период Третьего рейха, когда НСДАП (национал-социалистическая немецкая рабочая партия), с одной стороны, пыталась использовать объединительный пафос мифа для консолидации немецкого общества, а с другой – зачастую замалчивало его в угоду внешнеполитическим требованиям. В целом Германский миф был во многом дискредитирован нацизмом, в то время как Кельтский миф сохранил свою актуальность и значимость. В заключение автор подчеркивает важность мифотворчества в формировании и закреплении национального самосознания в современных обществах и делает вывод о том, что Кельтский и Германский мифы хотя и обращаются к историческим фактам, но строят собственное «прошлое» с опорой на коллективную память и социальные конструкты, которые зачастую не имеют прямого отношения к реальной истории.
Нация, национализм, политический миф, Арминий, кельты, Германия, Франция
Короткий адрес: https://sciup.org/149149466
IDR: 149149466 | УДК: 1(191)130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.2
Текст научной статьи Германский миф против Кельтского мифа: к вопросу об одном аспекте европейского нациостроительства
DOI:
Цитирование. Аршин К. В. Германский миф против Кельтского мифа: к вопросу об одном аспекте европейского нациостроительства // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 2. – С. 13–21. – DOI: 10.15688/
Процесс формирования европейских наций сопровождался процессом создания символов и ритуалов, которые должны были утвердить национальное единство перед лицом иных социальных общностей. Во Франции и Германии этот процесс привел к формированию Кельтского и Германского мифов соответственно.
Характерным моментом при формировании как Германского, так и Кельтского мифов являлся тот факт, что хотя они и апеллировали к истории, с фактической историей были связаны мало. Отечественный исследователь В.А. Шнирельман специально указывает на необходимость различать историю и прошлое, акцентируя внимание на том, что история – это то, чем занимаются профессиональные историки, а прошлое – это некий «образ» прошедшего, укоренившийся в коллективной памяти социума и служащий основой для функционирования коллективного самосознания [Шнирельман 1995]. Шнирельман специально отмечает, что история и прошлое не отделены друг от друга и могут пересекаться, даже сливаться в единое целое, однако в прошлом всегда присутствуют мифологические элементы.
При этом миф не является синонимом лжи или фальсификации. Миф – это форма «коллективной исторической памяти», передающаяся через социальные группы [Misztal 2003, 17], обеспечивающая соединение «подходящего прошлого» с «правдоподобным будущим» [Foucault 1978, 53–72] и нацеленная на то, чтобы «придать значимость миру», в котором живет человек [Bottici, Challand 2015]. При этом необходимо отметить, что мифы не являются чем-то застывшим. Они текучи и изменчивы и со временем могут трансформироваться под влиянием изменившихся социальных условий социальных групп, для которых они являются значимыми [Шнирельман 1995, 4].
Как указывает отечественный исследователь О.И. Заиченко, германская историческая мифология достаточно разнообразна и неоднократно предпринимались попытки ее классифицировать. Общий Германский миф включает в себя две группы исторических мифов. Первая связана с ответом на вопрос «Кто такие немцы?» и включает «миф об общем происхождении немцев от древних германцев, а также связанные с ним представления о превосходстве и уникальности немецкого языка, и развивающий дальше во времени основные идеи “древнегерманского” мифа так называемый имперский миф» [Заиченко 2016, 311]. Ко второй группе мифов относились мифы о героях (Арминии / Германе, Зигфриде, Фридрихе-Барбароссе, Лютере и др.), обосновывающие дихотомию «свой – чужой» в условиях военного или социального кризиса.
Основу мифа об общем происхождении немцев составила заново открытая в 1425 г. книга малых произведений древнеримского историка Тацита. Обнаруженная папским секретарем Поджо Браччолини в инвентарной описи Герсфельдского аббатства, она была опубликована в 1470 г. в Венеции. Одно из малых произведений Тацита составляла «Германия», книга, в которой римский историк описал «взгляд культурных римлян на нецивилизованный неримский мир» [Заиченко 2016, 312]. На удивление, у немецких интеллектуалов
XVI–XVII вв. книга, описывающая общественную жизнь, быт, верования и облик древних германцев, не только вызвала существенный интерес, но и послужила основой для формирования немецкой национальной идеи и связанных с нею исторических мифов. Важной составной частью немецкой национальной идеи стала идея о древности германцев. В произведении Тацита отсутствует точная датировка заселения германцами той территории, на которой они проживали. Для интеллектуалов XVI–XVII вв. это стало основанием считать, что происхождение германцев намного древнее римского. В рамках дискуссий, которые велись в тот момент, это позволяло немецким интеллектуалам утверждать превосходство немцев над другими народами Европы, в частности французами и итальянцами (предками которых были римляне). Апелляция к древности германцев служила основанием для утверждения древности и чистоты немецкого языка, вытекающих из древности и чистоты германской расы. Учение о немецком языке как «главном языке» Европы возникло в XVII в. и связано с деятельностью «языковых обществ», которые, стремясь разработать иерархию европейских языков, неизменно ставили немецкий язык на вершину. В сущности, используемая ими аргументация повторяла аргументацию Данте, который старался найти первооснову итальянского языка. Однако там, где Данте остановился, не решившись отождествить латынь и первоосновный итальянский язык, немецкие гуманитарии сделали следующий шаг, отождествив немецкий язык и первый язык человечества. С их точки зрения немецкий язык, в отличие от латыни, которая была продуктом деятельности человека, являлся самым природным, а следовательно и самым естественным из европейских язык. Как писал немецкий писатель XVII в. Георг Филипп Хар-сдёрффер, немецкий язык «рычит как лев, ревет как вол, бурчит как медведь, блеет как овца, хрюкает как свинья, лает как собака, шипит как змея, <...> мяукает как кошка, гогочет как гусь, <...> журчит и шумит водой, шепчет с ручьями, жужжит с пчелами, грохочет с громом, сжимается и потрескивает как горящее полено, лязгает как железо – и воспроизводит все звуки, которые только можно
К.В. Аршин. Германский миф против Кельтского мифа услышать» [Заиченко 2016, 320]. Как отмечает О.И. Заиченко, «естественность» и «чистота» немецкого языка позволяли немецким интеллектуалам считать немецкий язык языком Бога, поскольку он «наиболее адекватно передает природные звуки» [Заиченко 2016, 321]. Соответственно, и народ, который говорит на этом языке, ближе к Богу, чем другие народы, и является более совершенным по сравнению с ними, тем более если учесть, что древние германцы, описанные Тацитом, характеризовались нравственной чистотой, естественностью, жизненной силой и т. д. И все эти качества благодаря сохранению языка унаследовали и их потомки. В XVIII в. один из крупнейших мыслителей Просвещения И.Г. Гердер в своих работах «Еще одна философия истории» и «Идеи к философии истории человечества» развил указанные идеи, создав миф о немцах как главной нации Европы. В частности, Гердер указывал, что именно немцам европейские народы обязаны своим политико-государственным устройством, поскольку все европейские государства были созданы немцами и именно немцы служили тем щитом, о который разбивались «варварские орды», идущие с востока. Именно немцы являлись народом, развивающим европейские науки и искусства. Наконец, именно немцы являлись теми столпами Европы, «на которых утверждены культура, свободы и независимость Европы» [Гердер 1977, 470].
Современное же Гердеру «жалкое» состояние Германии мыслитель объяснял тем, что немцы в течение всей своей истории вынуждены были защищать и обустраивать Европу, заниматься развитием наук и искусств у других народов, вследствие чего не уделяли должного внимания обустройству собственного дома.
С мотивом борьбы против внешнего агрессора в значительной мере был связан Германский миф о герое, который воплощал все положительные качества, с которыми ассоциировало себя немецкое общество. Таким героем после повторного открытия «Анналов» Тацита в 1509 г. и позднее манускрипта с «Римской историей» Гая Веллея Патеркула стал вождь германского племени херусков Арминий, который в 9 г. н. э. нанес сокрушительное поражение римским легионам Публия Квинтиллия
Вара, тем самым предотвратив продвижение Римской империи на восток.
Представляется, что акцент на фигуре вождя херусков Арминия был сделан не в последнюю очередь именно из-за его противостояния Римской империи, что в реалиях XVI в. осмыслялось как противостояние протестантских княжеств притязаниям римско-католической церкви и Империи. Тем самым почитание Арминия стало частью протестантской культуры, а он сам – фигурой, вокруг которой осуществлялась мобилизация немцев в периоды внешней и внутренней опасности вплоть до XX в., причем как в ФРГ, так и в ГДР. В этой связи немецкий политолог Г. Мюнклер писал: «Как только разгорались споры об интересах немецкой нации, о свободе и единстве немецкого народа – сразу всплывал Арминий. Политикам он был нужен, когда являлись “враги”: либо внешние, такие как Рим, Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние – например, евреи. Причем в интерпретации политиков образ Арминия никогда не был самостоятельным, он блекнет без неприятеля, антагониста. Даже в ГДР он был первым “революционером”, борцом за классовую справедливость, противником “римского империализма”» [Мünkler 2009, 5].
Однако общегерманское значение образу Арминия (в немецком переводе Германа) было придано только в XVIII веке. В 1743 г. поэт Иоганн Элиас Шлегель создал трагедию «Герман», которая считается первой немецкой национальной драмой. Шесть лет спустя автор «Оснабрюкской истории» Юстус Мё-зер представил публике эпическую драму «Арминий», в которой попытался представить древних германцев, в пику Тациту, в качестве цивилизованного народа. Наконец, в 1769– 1787 гг. рождается трилогия Фридриха Готтли-ба Клопштока «Бардиты», состоящая из трех пьес («Битва Германа», «Герман и князья», «Смерть Германа»), в которых Арминий / Герман предстает в качестве объединителя немецких земель, павшего в неравной борьбе против предателей-вождей, продавших немецкую свободу римлянам. Здесь необходимо согласиться с российским исследователем Я.Ю. Межерицким, который отмечал: «Лучшие умы в историческом споре с соседями пытались найти контраргументы в далеком прошлом, и Арминий, разгромивший римлян, был самым убедительным из них. Выросшая на этом энтузиазме литература XVIII в. трансформировала исторический факт в миф: Арминий, предводитель германцев, “вырос” в народного немецкого героя, основателя нации Германа» [Межерицкий 2009, 81].
В XIX в., в период расцвета немецкого национального сознания, фигура Арминия / Германа приобретает особый статус. В 1838 г. начинается строительство памятника Арминию на горе Гротенбург у г. Детмольда. Открытый только в 1875 г. памятник был обращен в сторону извечного противника Германии – Франции. В первой половине XX в. образ Арминия также активно использовался, «внося свою лепту в шовинистические настроения, характерные для Германии перед Первой мировой войной. И в межвоенный период образ Арминия продолжал эксплуатироваться националистической пропагандой» [Парфенов, Плеве, Лобачева 2012, 4]. В 1924 г. выходит в свет «Битва Германа. Величественная картина далекого прошлого Германии», в котором очевидным образом сравниваются образ Германии, одержавшей победу над римскими легионами, и образ Германии, униженной «Версальским договором».
В нацистский период официальные власти Германии относились к фигуре Арминия противоречиво. С одной стороны, его образ использовался в национал-социалистической пропаганде. В период 1933–1938 гг. было выпущено множество открыток, в которых сочетались образ Арминия и нацистская символика. На ряде пропагандистских плакатов образ Гитлера откровенно сливался с образом древнего германца, а усилия нацистского режима по преодолению последствий Версальского мирного договора отождествлялись с победами древних германцев над римлянами. Так, на одной из открыток с изображением А. Гитлера, взметнувшего руку в нацистском приветствии на фоне памятника Арминию, красовалась надпись: «Там, где когда-то был вождь германцев, немецкая земля освобождалась от врага! Развевайтесь победные знамена Гитлера, мощно идущего в новое время» [Киряева 2020, 107]. С другой стороны, официальные лица Третьего рейха относились к фигуре Арминия достаточно прохладно. Например, в 1933 г. министр пропаганды Геббельс отказал в прошении детмольдского мэра утвердить памятник Арминию в качестве «национального места паломничества» [Engelbert 1975, 131]. В 1936 г. памятник был вычеркнут из программы государственного визита итальянского дуче Б. Муссолини, якобы из-за того, что созерцание фигуры победителя римских легионов могло оказать неблагоприятное воздействие на эмоциональное состояние итальянского диктатора, мнившего себя наследником римских цезарей. Порой даже появлялись открытки, в которых деятели Третьего рейха противопоставлялись фигуре Арминия [Киряева 2020, 108].
Тем не менее по окончании Второй мировой войны образ Арминия подвергся своеобразной денацификации. В 1950 г. в свет вышла книга немецкого историка Г. Кестинга «Освободитель Арминий в свете исторической традиции», выдержавшая более 16 изданий, что говорит о ее востребованности. В своем историческом трактате Кестинг акцентировал внимание на таком последствии победы Арминия над римскими легионами, как недопущение покорения Германии Римом и спасении германской культуры от поглощения римской культурой (в отличие от Галлии, которая была Римом покорена). В качестве апологии Арминия Кестинг приводил слова безымянного английского полковника, который в 1948 г. якобы указывал на позитивную роль Арминия в спасении английского языка и расы [Losemann, 1994].
В настоящее время использование образа Арминия носит все столь же противоречивый характер. С одной стороны, Арминий в сочетании с призывом «вышвырнуть всех иностранцев из Германии» появляется на неонацистских листовках. С другой стороны, в 2009 г. в рамках празднования 2000-летия разгрома римских легионов в Тевтобургском лесу немецкая и французская делегации отдали дань памяти Арминию – несмотря на тот факт, что образ Арминия использовался и в антифран-цузской пропаганде [Межерицкий 2009, 82].
Впрочем, и сама Франция формировала не менее значимый миф о «престижных предках», вокруг которого строилась французская идентичность, а именно Кельтский миф. Хотя
Кельтский миф не является исключительно собственностью французов (в отличие от Германского мифа, который развивался исключительно в рамках немецкой нации), тем не менее именно во Франции он приобрел влияние, уравновесив Германский миф.
Как было показано выше, вопрос о галлах как предках французов ставился французскими историками еще в XVI–XVII вв. как аргумент в пользу великодержавных амбиций французских королей. Однако в силу того, что вопрос о единой идентичности населения французского королевства как таковой отсутствовал, дискуссии о том, происходили ли французы от галлов или франков, а может быть от римлян, какая часть их крови была римской, а какая варварской и т. п. не выходили за рамки узкой группы интеллектуалов, обслуживавших идеологические потребности французского королевского двора. Но все изменила Великая французская революция, в рамках которой вопрос о галльском происхождении представителей Третьего сословия был поставлен достаточно остро аббатом де Сийесом, возведшим Третье сословие к галлам и отождествившим его с нацией. С этого момента вопрос о предках современных французов был практически решен. Так, в 1799 г. французский академик Легран Д’Осси в рамках дебатов по Закону об охране древних памятников откровенно заявлял, что охране подлежат только галльские погребения, тогда как римские погребения «не принадлежали к культуре наших предков и являются... чужеродными памятниками» [Шнирельман 2007, 456]. Спустя шесть лет, в 1805 г., император Наполеон Бонапарт создал Кельтскую Академию. Академией были инициированы исследования, направленные на поиск «этнических границ» кельтской Европы. Безусловно, не последнюю роль в деятельности Академии играло стремление имперских властей обнаружить древние подтверждения территориальных претензий наполеоновской Франции, но как бы то ни было, Кельтский миф приобрел влияние, несмотря на те противоречия для французской идентичности, которые он порождал.
Противоречия эти, как указывает В.А. Шнирельман, опирались на противоречивости внутреннего содержания Кельтского мифа и тех целей, которым он должен был слу- жить. В то время как Франция начала XIX в. «жила универсальными ценностями и создавала гражданскую нацию» [Шнирельман 2007, 465], Кельтский миф с его акцентом на генетических предках французов в большей мере соответствовал проекту «этнического национализма», возводящего в абсолют чистоту крови. Тем не менее, несмотря на указанное противоречие, французские историки периода Реставрации и Июньской монархии активно пропагандировали галлов в качестве предков современных французов. При этом они акцентировали внимание не столько на прямой генетической линии преемственности французов от античных галлов, сколько на преемственности от них духа свободолюбия. Наиболее активно эта тема прорабатывалась историком О. Тьерри, который в своей «Истории Французской революции» проводил параллели между освобождением галлов от теократии друидов и освобождением французов от власти аристократов. Именно О. Тьерри создал образ Верцингеторикса как освободителя галлов, а самих галлов сделал носителями того духа свободы, который практически без изменений был воспринят французским народом XIX века.
Однако только после Франко-прусской войны 1870 г. Кельтский миф приобрел силу, позволившую ему вытеснить из общественного дискурса вопрос о германских предках французов и «образ римской Галлии». Следует отметить, что последний был достаточно влиятелен в период Второй империи. Хотя Император Наполеон III уделял большое внимание археологическим раскопкам на местах галльских поселений (в частности, им были профинансированы раскопки в крепости Алезия (1861 г.), в Жерговии (1862 г.) и в Бибрак-те (1867 г.)), а также в 1865 г. возвел памятник Верцингеториксу в Алезии, но для образованного класса Франции было очевидно, кто именно принес в Галлию «цивилизацию», которой так гордились французы.
После Франко-прусской войны 1870 г. фраза «наши предки галлы» стала обязательной мантрой для любого образованного француза, а вопрос об отце французской нации предполагал однозначный ответ – Верцинге-торикс. Именно в период Третьей республики «улицы и площади Парижа начали переиме- новываться и обретать галльские имена; многие другие города украсились скульптурами, изображавшими галлов. Галлам было посвящено бесчисленное множество художественных произведений, пьес, военных исследований» [Шнирельман 2007, 466].
Интерес к галлам снова поднял вопрос об этнической и гражданской основе французской нации, а также о тех ценностях, что должны служить основой французского самосознания. И если значимость галльского наследия для самосознания французов не подвергалась сомнению, то вопрос об этническом происхождении как основании для осознания себя французом стоял достаточно остро. Так, например, археолог Ж. Туттен настаивал на том, что этническая чистота галлов была сохранена римским завоеванием. В случае если бы римлянам не удалось бы покорить галлов, этническая чистота галльского племени была бы уничтожена «ужасными германцами». Тут-тена поддерживал видный французский анатом Катрфадж, видевший в современных ему немцах продукт расового смешения «финнославянского происхождения». Видный французский историк К. Жулиан, преподаватель Коллеж де Франс, откровенно отождествлял кельтов и современных французов. Не столь бескомпромиссно, но в том же русле рассуждал и куратор Музея в Сен-Жермене историк А. Юбер, который хотя и выступал жестким критиком расового подхода, тем не менее видел в галлах этническую подоснову французской нации. Также необходимо указать и Шарля Морраса, одного из виднейших деятелей ультраправого движения во Франции межвоенного периода, утверждавшего существование «латинской расы», сформировавшейся на основе галло-римского симбиоза и легшей в основу французской нации [Davies 1981; Dietler 1994].
Военно-политическое поражение Франции в 1940 г. дало новый импульс развития Кельтского мифа. В период «режима Виши» было организовано несколько церемоний, направленных на поддержку духа французской нации. Так, в 1942 г. руководитель правительства Виши маршал Пэтен в местечке Жерго-вия инициировал общенациональную церемонию, в рамках которой были доставлены мешочки земли из всех французских департаментов.
В ходе церемонии сам Пэтен отождествлял себя с Верцингеториксом, что подтверждали выступавшие на церемонии ораторы. Без сомнения, целью церемонии было утверждение культа личности Пэтена, но одновременно и утверждение галльского происхождения французской нации. Тем более, что на подконтрольной нацистам территории Франции в 1940 г. развернулись масштабные археологические раскопки, имевшие целью подтвердить тот факт, что еще до прихода римлян территорию Франции населяли племена германцев, которые «окультуривали» племена диких галлов.
Вместе с тем нельзя не отметить достаточно противоречивое отношение к образу Верцингеторикса со стороны «режима Виши», которое, можно сказать, являло собой зеркальное отображение отношения нацистского режима к образу Арминия. И несмотря на масштабные церемонии, именно при «режиме Виши» многие статуи Верцингеторикса были сняты с постаментов и отправлены в переплавку.
В послевоенный период Кельтский миф пережил второе рождение, став важным элементом утверждения Францией своего национального суверенитета. Так, в 1985 г. президентом Франции Ф. Миттераном были инициированы раскопки на месте галльской крепости Бибракте, которые уже в 1990-х гг. стали «местом паломничества туристов и археологов», а также «региональным центром ежегодных друидских праздников» [Шнирельман 2007, 469]. Ряд французских политиков (Валери Жискар Д’Эстен и Жак Ширак) начинали свои избирательные кампании в Жерговии, а лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пэн одну из своих наиболее знаковых анти-мигрантских пресс-конференций, сделавших его политиком национального масштаба, провел в Алезии. Равным образом и современные Новые правые Франции «склонны подчеркивать свои кельтские корни и ценность дохристианских политеистических религий» [Шнирельман 2007, 468].
Вместе с тем следует отметить, что в отличие от Германского мифа, который носил строго партикуляристский характер, Кельтский миф содержал в себе элементы универсализма, которые позволили ему претендовать на формирование основы идентичности Евро- пейского союза. Причина этого имеет как объективный, так и субъективный характер. Объективный характер универсальности Кельтского мифа состоит в том, что исторически кельты действительно населяли большую часть Западной и Центральной Европы, что как бы предопределяет историческое единство Европейского союза. Субъективно же Кельтский миф в отличие от Германского мифа (в значительной степени дискредитированного нацистами) воспринимается как универсальный, выстроенный на гражданских ценностях свободы, демократии и мирного сосуществования.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в 1990-е гг. Кельтский миф приобрел сепаратистский оттенок. Так, в мае 1999 г. в Ольстере (Северная Ирландия) ольстерские шотландцы (олланы) провели манифестацию, заявив о своей преданности шотландской культурной традиции. В Уэльсе в 1990-х гг. был инициирован процесс культивирования кельтской автохтонности. Во Франции Бретань настаивает на своей культурной самобытности, и в 1977 г. между правительством Франции и Бретанью была подписана Культурная хартия, в которой закреплено обязательство Франции гарантировать свободное развитие Бретани, бретонского языка, а также культурную самобытность региона. В Италии националисты из «Лиги Севера» апеллируют к Кельтскому мифу с целью доказать принципиальное различие между Севером и Югом Италии. Идеологами «Лиги Севера» «кельты рисуются храбрым, независимым народом, жившим в условиях полной демократии и знавшим федеративное устройство общества. <…> Все это будто бы было перечеркнуто римлянами, которые выглядят в глазах Лиги жестокими колонизаторами, покорившими местное население, латинизировавшими его и заставившими подчиняться центральной власти Рима» [Шнирельман 2007, 477]. Наконец, в Испании Кельтский миф стал основой республиканской идентичности, противопоставленной «иберийским» националистам франкистского толка. В современной Испании Кельтский миф активно используется в качестве питательной среды для региональных идентичностей (баски, каталонцы и т. д.), которые находят в нем историческую подоснову для своей самобытно- сти (несмотря на тот факт, что нет никаких археологических доказательств того, что кельтские племена когда-либо населяли территории современной Испании) [Ruiz Zapatero, 1996].
В заключение следует отметить, что Кельтский и Германский мифы сыграли значительную роль в формировании национальной идентичности французов и немцев соответственно. Хотя оба мифа обращаются к историческим фактам, каждый из них строит собственное «прошлое» с опорой на коллективную память и социальные конструкты, которые зачастую не имеют прямого отношения к реальной истории. Например, образ Арминия в Германии включал целую палитру смыслов – от символа противостояния Римской империи до фигуры, используемой для мобилизации немцев в разные исторические периоды, включая времена внешней и внутренней опасности. Однако пластичность национальных мифов обусловливала и их внутреннюю противоречивость. Германский миф использовался в период Второго и Третьего рейхов в качестве основы объединения немецкой нации перед лицом внешней опасности, но одновременно некоторые его аспекты замалчивались в угоду внешнеполитическим требованиям. В случае Кельтского мифа противоречия возникали из-за разницы между этническим национализмом и универсальными ценностями, провозглашаемыми французским государством. Подобная противоречивость сохраняется и поныне. Кельтский миф, с одной стороны, служит основой для формирования единой идентичности Евросоюза, а с другой стороны, используется сепаратистскими группами (баски, каталонцы, шотландцы) для обоснования необходимости завоевания автономии.