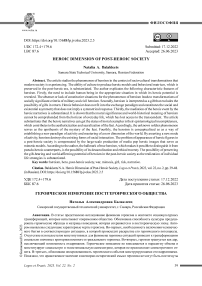Героическое измерение постгероического общества
Автор: Балаклеец Н.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено исследование феномена героизма в контексте социокультурных трансформаций, которые испытывает современное общество. Обоснована способность культуры продуцировать героические образцы и матрицы поведения, которая сохраняется и в постгероическую эпоху. Автором выявлены следующие характерные черты героизма. Во-первых, необходимость включения человеческого бытия в соответствующую ситуацию, в которой происходит раскрытие его героического потенциала. Отсутствие или недостаток конститутивных для феномена героизма ситуаций приводит к трансформациям социально значимых критериев военного и гражданского героизма. Во-вторых, героизм трактуется как дар, исключающий возможность отдаривания. Героическое поведение не вписывается в парадигму обмена и конституирует социальную и экзистенциальную асимметрию, которая не предполагает симметричного ответа. В-третьих, обоснована опосредованность героического события конструирующими его нарративами. Показано, что нравственное значение и всемирно-исторический смысл героизма не могут быть постигнуты из горизонта повседневности, лишенной выхода к трансцендентному. Условием придания героическим нарративам статуса нравственных образцов является их эпистемологическая неполнота, которая способствует эстетизации и сакрализации подвига. Соответственно, апофеозом тайны подвига служит феномен неизвестного солдата. В-четвертых, раскрывается смысл героизма как способа утверждения новой парадигмы деятельности и освоения нового измерения мира. Утверждая новый способ деятельности, героизм разрушает существующие формы социального взаимодействия. Проблематичность появления в постгероическом обществе героических фигур компенсируется масштабным производством медийных поп-героических образов, служащих образцами для подражания. Отличительным признаком подлинного героизма, позволяющим отграничить его от псевдогероических аналогов, выступает возможность его десакрализации и этического травестирования. Обоснована возможность сохранения дароносного и мироутверждающего потенциала героизма в постгероическом обществе на уровне индивидуальных жизненных стратегий.
Героизм, герой, постгероическое общество, война, мимесис, дар, риск, нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/149143705
IDR: 149143705 | УДК: 172.4+179.6 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.2.5
Текст научной статьи Героическое измерение постгероического общества
DOI:
Цитирование. Балаклеец Н. А. Героическое измерение постгероического общества // Logos et Praxis. –
2023. – Т. 22, №2. – С. 39–48. – DOI:
...Почитание героев... не может исчезнуть, пока существует человек.
Томас Карлейль
Феномен героизма относится к социально значимым практикам, которые сохранили свою актуальность и в условиях трансформации ценностно-смысловых ориентиров развития современного общества. Несмотря на широкое распространение установок индивидуализма, гедонизма, нарциссизма в массовом сознании, современная культура продолжает порождать образцы и модели для подражания, транслировать образы значимых Других, которые становятся источником конституирования различных социокультурных идентичностей.
Героизм как утверждение образцов и моделей поведения, выходящих за рамки повседневного человеческого бытия, сохраняет свою значимость и в современную постметафизическую и постгероическую эпоху 1. Об этом свидетельствует неподдельный интерес наших современников к историческому прошлому, связанный с разочарованием в масштабных социальных проектах, ориентированных на конструирование совершенного будущего. Тяга к мифологическим или религиозным нарративам, включающим героические сюжеты, не изжита даже в эпоху сциентиза-ции и технологизации всех областей социальной жизни. «Расколдовывание мира» (М. Вебер), которое было осуществлено силами науки и техники, отнюдь не привело к утрате веры в сверхъестественное, фантастическое, превосходящее пределы изученных человеческих возможностей. Своеобразным эрзацем образцов подлинного героизма в гедонистическом обществе, ориентированном на массовое потребление, является возрастание интереса к экстраординарному: компьютерные игры и телесериалы, в которых фигурируют средневековые рыцари («Игра престолов» и др.), популярные литературные произведения в стиле фэнтези служат средством эскапизма, отторжения рутинной и унылой повседневности, сохраняющих индустриальный облик городских ландшафтов. Сказывается не только усталость от модернизации с ее рисками и побочными эффектами, рождающая желание перехода в иной пространственновременной пласт бытия.
Потребность в героических образцах и нарративах, представленная в современных условиях в конструировании медийных псев-догероических персонажей, обусловлена, на наш взгляд, неизбывной способностью культуры и общества к выходу за границы привычных, повседневных моделей поведения. Конституирование границ и разрывов между различными формами человеческой активности приводит к утверждению социально значимых Других, задающих ценностные векторы социальной динамики. Героический акт как действие, в ходе которого происходит преодоление новых вызовов и расширение границ человеческих возможностей, служит образцом для основанных на нем миметических (подражательных) практик – видов социальной активности, основанных на готовности следовать героическим актам или, по меньшей мере, воспринимать таковые в качестве транс-цендирующих наличное бытие.
Вместе с тем псевдогероические образы значимых Других, порождаемые массовой культурой и ориентированные на подражание (супергерои), не тождественны образцам подлинного героизма. Проблема, решению которой посвящено настоящее исследование, заключается в отсутствии в отечественной научно-исследовательской литературе специальных работ, которые были бы сфокусированы на анализе феномена героизма через призму его трансформаций и особенностей его бытования в постгероическом обществе. Целью настоящей статьи является экспликация характеристик подлинного героизма, которые позволяют отграничить его от разнообразных форм псевдогероизма, в изобилии рождаемых современным обществом.
На наш взгляд, феномену героизма присущи следующие характерные черты. Во-первых, героическое поведение не имманентно человеческому бытию. Оно может проявляться при условии включения наличного бытия в соответствующую ситуацию, которая, подводя его к грани небытия, вместе с тем раскрывает массу возможностей преодоления ограниченности человеческого существования и тем самым служит источником реализации витальных и духовных потенций человека, источником воплощения полноты человеческого бытия. Критерии героизма являются подвижными и задаются тем самым конститутивной для него ситуацией и ценностными ориентирами развития общества.
Героизм в целом, безусловно, не тождествен военному героизму, но именно в военное время возникает масса ситуаций, сопряженных со смертельным риском. Война как «образцовое место героизма» рождает два героических гештальта – воин как аристократическая фигура, чей подвиг овеян ореолом личной славы, и солдат как коллективная фигура, чья значимость определяется реалиями современных технизированных войн, участники которых – миллионы анонимных, безымянных комбатантов – отличаются терпением, выдержкой и упорством [Бадью 2013, 63–66, 75–76].
Тезис о том, что героями не рождаются, подтверждается выводами военной теории. Еще К. фон Клаузевиц связывал мужество армии с духом комплектующего ее на- рода, тем не менее, подчеркивая, что воинская доблесть взращивается лишь в условиях войны в постоянной армии [Клаузевиц 1994, 205]. Приведенный вывод представляет собой эмпирическое обоснование умозрительной сентенции Платона о необходимости изолированного образа жизни стражей. Изоляция военных от гражданских лиц, обосновываемая Клаузевицем, представляется необходимой мерой с целью формирования в армии корпоративного духа и предотвращения негативных последствий влияния установок светского общества. Постоянная армия, которая сталкивается с многочисленными вызовами и проверками на прочность, закаляется в подобных конститутивных для героического поведения ситуациях.
Нравственное значение войны, раскрытое рядом философов [Бродский 2019], заключается в формировании у человека таких добродетелей, которые могут быть взращены исключительно в ситуациях преодоления гигантского сопротивления собственной воле: «Ряд прекраснейших человеческих качеств – решительность, настойчивость, спокойствие в опасности, стойкость в несчастье, которые имеют огромное значение и для мирной жизни, и даже для индивидуального счастья, могли обрести свой истинный характер, свое полное развитие лишь в пылу сражения» [Генц 2003, 345–346]. Показательным в данном контексте является мысленный эксперимент, предложенный И.А. Ильиным. Философ предлагает помыслить новый антропологический тип – «человекообразных», появление которого стало бы возможным при условии утраты человечеством «дара страдания». Физическое и нравственное преобразование человеческого рода, пребывающего в состоянии «неразборчивого, первобытного сладострастия» и «всесторонней сытости», привело бы к катастрофическим последствиям. Новый антропологический облик («недифференцированные, невыразительные лица», «плоские, низкие лбы», «мертвые, мелкодонные гляделки вместо бывших глаз и очей», «бессмысленно чмокающие рты») сопровождался бы вошедшей в плоть и кровь порочностью, губительной для культуры и общества [Ильин 2011, 851–852].
Геймифицированное общество, в котором военные герои утрачивают свой симво- лический статус референтного Другого, открывает иные модальности героизма. Конструирование в современной медийной культуре «супергероев», приобретших экстраординарные способности в силу мутации, обусловленной контактом с радиоактивными веществами, демонстрирует отказ от понимания героизма как личной заслуги, результата напряжения человеческих сил и преодоления границ человеческих возможностей. Появление у супергероя сверхспособностей в результате биологической мутации нивелирует смысл героических ситуаций, закаляющих волю, и сопряженных с ними испытаний.
Отсутствие или недостаток конститутивных для героизма ситуаций приводит к трансформации критериев военного героизма, порождаемых современным обществом: «Уже не воинствующему герою как образчику жертвенности, но во все большей степени травмированному солдату, как представляется, приписывается аура сверхъестественного» [Das Heroische... web, 51–52].
Стремление обезопасить себя в ситуациях, связанных со смертельным риском, было свойственно участникам военных действий начиная с далекой древности. Еще античная мифология сохранила образ своеобразной военной шапки-невидимки – шлема Аида, который делает своего обладателя неуязвимым для врага [Аполлодор 1972, 10, 29, 132]. Современные технологии ведения военных действий позволяют комбатантам в целом ряде ситуаций быть невидимыми для объектов своих атак, которые также далеко не всегда поддаются четкой визуализации. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), невидимые для своих жертв, лишены необходимости рисковать жизнью в непосредственной схватке с врагом. Отсутствие ситуации смертельного риска, которая позволяла бы найти в действиях операторов БПЛА героическое содержание, компенсируется попытками стигматизации дистанционных бойцов, обоснования психических травм, причиняемых их деятельностью. По свидетельству Г. Шамаю, «раньше демонстрация психических травм солдат использовалась для протеста против их насильственной мобилизации государством, сегодня же она используется, чтобы придать новой форме одностороннего насилия героическую окраску, которой оно было лишено» [Шамаю 2020, 118].
В современном обществе проявляется тенденция отказа отождествлять героизм с воинской доблестью или деятельностью выдающихся по своим достижениям, исключительных в нравственном отношении личностей. Происходит конструирование нарративов о неполитических или контрполитических формах героизма. Смысл героического поведения усматривается не в служении Отечеству, но в проявлении гражданской инициативы, борьбе за права человека, выполнении деятельности, связанной с угрозой здоровью или сохранением (восстановлением) общественной безопасности. В ряду современных героев исследователями упоминаются in specie борцы за мир, добровольцы, принимающие участие в восстановлении разрушенных населенных пунктов, правозащитники, информаторы, делающие достоянием общественности незаконные действия правительства или коммерческих организаций (Whistleblower), а также пожарные из службы 9/11, спасатели или борцы за политическую свободу [Das Heroische... web, 16].
В качестве «героев будней» ( Helden des Alltags ) в Германии чествуют людей, подчас проявляющих простую заботу о ближних [Ба-лаклеец 2021, 76]. Подобная практика, низводящая героический поступок к бескорыстному альтруистическому поведению, не связанному со смертельным риском, характерна для «постгероических обществ» [Мюнклер 2018, 189]. «Парадигма обмена», предполагающая получение пропорционального ответа на любое затраченное во имя ближнего усилие, настолько глубоко укоренена на уровне повседневного бытия членов постгероического общества, что отклонение от этой парадигмы, связанное с проявлением способности к самопожертвованию, воспринимается ими как героический поступок. С этим связана следующая выделяемая нами характерная черта героизма.
Во-вторых, героизм трактуется нами как дар, не предполагающий возможности отдаривания. Показательно, что нивелирование бескорыстного смысла дарения характерно не только для современных постгероических обществ. Так, исследование такой архаичес- кой практики, какой является потлач, проведенное М. Моссом, показывает, что жертва, принесенная богам, по сути является покупкой их расположения или обменом, призванным умилостивить или умиротворить высшие силы. Дар не является односторонним социальным действием, он непременно должен быть возмещен [Мосс 2011, 159–160]. Следовательно, принесение жертвенного дара (на наш взгляд, более уместным было бы обозначать его как «подарок») в рассматриваемой теоретической парадигме можно трактовать как учреждение миметического ряда действий, основанного на социальной симметрии. Включение дара в парадигму обмена характеризует его с утилитарно-экономических позиций как механизм поддержания социальной стабильности в архаических обществах. Утилитарный смысл дарения обнаруживается и применительно к обществам эпохи модерна. Т. Гоббс в «Левиафане» определяет дарение как небескорыстный поступок, включая его в юридический дискурс. В качестве мотивов дара, понимаемого как одностороннее перенесение права, Гоббсом указываются надежда приобретения дружбы одариваемой стороны или какой-либо услуги от нее; надежда приобретения репутации «милосердного или великодушного человека»; желание избавления «от тяжелого чувства сострадания» или надежда на получение посмертной награды [Гоббс 2001, 92–93]. В целом дар представлен в «Левиафане» как частный случай или разновидность договорных отношений. Целью дарения как добровольного акта является «приобретение блага для себя» [Гоббс 2001, 105].
Впоследствии в теоретической мысли произошла кристаллизация оппозиции дара и обмена как двух парадигм социальных отношений. «Торгаш» (der Händler) и «герой» (der Held) как два семантически полярных гештальта, составляющих мировоззренческую оппозицию, воплощают различные типы организации социальной жизни. Если для «торгаша» жизнь являет собой череду торговых сделок, ведущих к материальному успеху, то «герой» рассматривает собственную жизнь как задачу, поставленную перед ним высшей силой, выполнение которой требует отречения от собственного Я [Зомбарт 2005, 15–16, 52–53].
На наш взгляд, героический поступок не может быть понят в качестве элемента отношений обмена и в этом заключается его да-роносное содержание. Героизм конституирует социальную и экзистенциальную асимметрию, которая не предполагает симметричного ответа. Асимметричный характер героизма может быть понят амбивалентно. С одной стороны, асимметрия задается ситуацией противостояния заведомо более сильному в военно-технологическом отношении сопернику. (Героем невозможно стать, одолев слабого, лишенного возможности сопротивления: в этом смысле кощунственными представляются попытки героизации не только террористов, акты агресии которых направлены на беззащитные жертвы, но и тех участников дистанционных военных действий, которые также имеют дело не с сопоставимыми по силам соперниками, но с живыми мишенями, подлежащими уничтожению.) С другой стороны, героический жертвенный дар есть феномен, который не может быть понят в логике симметричного обмена.
Симметричный характер обмена связан с необходимостью ответа на обретенные блага. Ценность дара заключается в изначальной невозможности отдаривания: дарящий, движимый надеждой на приобретение ответных благ, обесценивает акт дарения, обращая дар в подарок. Дар собственной жизни – высший из возможных даров – не должен быть бессмыслен. Риск героя – это не безрассудный риск авантюриста, который ищет удовольствие в приключении самом по себе. Жертва, принесенная героем ради спасения жизней других, не должна быть напрасной. В этом смысле «ответом» на героический дар может быть благо дар ность – посмертное воздаяние спасенных, чтущих жертву героя. Этическое обязательство выживших перед павшими героями заключается в межпоколенческой трансляции события героизма как элемента коллективной памяти.
В-третьих, следует различать героическое событие и конструирующие его нарративы. Героическое событие становится объектом знания посредством повествующих о нем нарративов, которые должны служить свидетельствами его онтологической свершеннос-ти. Потребность общества в исторических свидетельствах героизма объясняется тем обстоятельством, что подлинный герой никогда не признает себя таковым (по крайней мере, публично). Подлинный героизм не может быть представлен в «я-героических» нарративах. Это связано не столько с отсутствием возможности дать слово самому герою (часто павшему) для рассказа о своем подвиге, сколько с травестированием подобными нарративами ценности и смысла подвига. «Я-героический» нарратив представляется кощунственным, циничным или ироничным в условиях наличия в обществе высоких героических образцов, и лишь в постгероическом обществе такие названия компьютерных игр или музыкальных групп, как «Я герой» или «Мы герои», воспринимаются как нечто естественное, не вызывая вербального и экзистенциального отторжения.
Героические нарративы, выступающие источником знания о героическом событии, конституируют его в качестве реального референта. Иными словами, нарратив конструирует двойную реальность: с одной стороны, знаково-символическую реальность (текст), с другой стороны – открываемое этим текстом событие. При этом эпистемологическая неполнота, свойственная героическим нарративам, и, более того, своеобразное этическое вето на их верификацию являются неотъемлемым условием формирования доверия к их содержанию и придания им статуса нравственных образцов. Героические нарративы, деликатно опускающие нелицеприятные подробности жизни воспеваемых ими персонажей, имеют воспитательное значение, на что указывает еще Платон: для воспитания стражей надобно исключить из «повествований и стихов» «сетования и жалобные вопли прославленных героев» [Платон 2015, 101]. Смакование физиологических или психологических подробностей подвига, критическая рефлексия над (не)возможнос-тью его свершения лишают фигуру героя и героическую ситуацию ореола тайны. Сохранение в героическом нарративе элементов тайны подвига является условием эстетизации и сакрализации последнего.
Осмысливая известную поговорку «для камердинера нет героя», Г. Гегель отмечает, что дело заключается не в отсутствии героев как таковых, но в неразличимости феномена героизма из перспективы камердинера: «Камердинер снимает с героя сапоги, укладывает его в постель, знает, что он любит пить шампанское и т. д.» [Гегель 2000, 83–84]. Таким образом, из перспективы камердинера нельзя увидеть героя. Очевидно, что слуга лишен возможности проживания героических ситуаций вместе со своим господином. Великий полководец или выдающийся политический деятель, приводящий в трепет целые армии, решающий судьбы миллионов, может приобрести из перспективы камердинера статус аморального лица, движимого низменными страстями и желаниями. Причем в качестве подобного «камердинера» может выступать отнюдь не только слуга, которому доступны самые интимные стороны жизни своего выдающегося господина. («Человек должен есть и пить, у него есть друзья и знакомые, он испытывает разные ощущения и минутные волнения» [Гегель 2000, 83].) Ниспровержение величия всемирно-исторических личностей, движимых, согласно Гегелю, не своими эгоистическими интересами, но воплощающих в своей деятельности «волю мирового духа», присуще и историческим нарративам, создаваемым «психологическими камердинерами» – историками, подводящими под великие исторические свершения низменные мотивы. Следовательно, вопрос заключается в том, как достигается видение героического. Как обыденные представления, так и исторические нарративы, реализующие эксплицированную Гегелем «перспективу камердинера», не позволяют увидеть в герое героя, ибо они акцентируют бытовую сторону и психологические детали его портрета. Нравственное значение и всемирно-исторический смысл героизма не могут быть постигнуты из горизонта повседневности, лишенной выхода к трансцендентному. Как справедливо замечает А. Бадью, «подлинная сущность символической фигуры солдата – в том, что он неизвестен» [Бадью 2013, 65–66]. Бадью делает акцент на анонимном и собирательном характере фигуры солдата, подчиненного коллективной дисциплине и противопоставляя его, как было отмечено выше, аристократической фигуре воина. Мы же полагаем, что значение культа неизвестного солдата заключается в намеренном отсечении индивидуально-личностных черт, которые, несомненно, ему присущи. Героический нарратив, утверждающий рассматриваемый культ, препятствует его оповседневниванию и вульгаризации, способствуя сохранению нравственного значения и тайны подвига. В этом смысле феномен неизвестного солдата представляет собой апофеоз военной доблести и героизма.
В-четвертых, героизм есть утверждение новой парадигмы деятельности и связанное с ним освоение нового измерения мира. Правомерным в данном контексте представляется сравнение героической личности с узником, покинувшим узкие рамки платоновской пещеры. Человеческая активность, даже технологически сложная, но подчиняющаяся устоявшимся, апробированным массой предшественников схемам и алгоритмам, несет в себе заряд миметизма и отодвигает границу неизведанного и рискованного. Собственно, технологизация и алгоритмизация различных сфер социальной жизни могут быть рассмотрены в качестве попыток человека обезопасить себя от непредсказуемых последствий собственной деятельности, исключить из нее факторы риска и неопределенности. Напротив, утверждение нового способа деятельности в условиях неопределенности и риска для жизни содержит в себе героическое начало, даже если герой-первопроходец не найдет последователей.
Показательным является гегелевское определение героев как «индивидов, которые по самостоятельности своего характера и своей воли берут на себя бремя всего действия, и даже если они осуществляют требования права и справедливости, последние представляются делом их индивидуального произвола» [Гегель 2007, 244]. Век героев неслучайно связывается Гегелем с добродетелями древних греков, расцветшими в условиях отсутствия как четко оформленного законодательства, так и всеобъемлющего государственного порядка. Героем, согласно Гегелю, невозможно стать, подчиняясь всеобщему правовому порядку. Герой – это тот, кто учреждает закон в беззаконном мире; устанавливает государство в дополитическом состоянии, проявляя «свободную самостоятельную добродетель» [Гегель 2007, 244].
Условием героического поведения по Гегелю выступает несоответствие внешнего внутреннему, «несчастное сознание» [Валь 2006], когда нравственный идеал мыслится недостижимым в земном мире. Нравственный закон носит субъективный, внутренний характер, в то время как внешняя действительность безнравственна. Героизм, таким образом, существует лишь на стадии субъективного духа. На стадии объективного духа, когда нравственный закон получает выражение во внешнем мире, героизм уже невозможен или неуместен (случай Дон Кихота), поскольку отсутствуют необходимые для его осуществления условия. Соответственно, в условиях законодательной регламентации всех сфер социального бытия проблематичной становится возможность проявления индивидуального начала деятельности. Задолго до провозглашения постгероической эпохи [Люттвак 2012; Мюнклер 2018] Гегель приходит к выводу о проблематичности появления героев в обществе, где индивидуальное подчинено всеобщему. Разветвленная система социальных отношений, в которой переплетаются разнообразные формы человеческой активности, препятствует проявлению героизма в его индивидуальном мироутверждающем измерении.
С позиции феноменологической социологии, героический поступок может быть рассмотрен как внесение поведенческой асимметрии в привычные, освоенные формы социальной активности. Подвиг представляет собой феномен, нарушающий сложившуюся в социальном универсуме систему интерсубъективных ожиданий. Экстраординарный характер подвига несовместим с привычной для повседневного человеческого бытия установкой «и так далее», согласно которой мир, каким я его знаю (и разделяю это знание с другими), будет сохранять свои свойства и в дальнейшем. Героизм разрушает социальную инерцию, основанную на существовании системы привычного знания и рутинных, алгоритмизированных способов взаимодействия, утверждая новый, непроторенный путь деятельности.
Проблематичность появления в современном обществе героев-учредителей, чья деятельность вносит парадигмальные изменения в систему сложившихся форм человеческой активности, компенсируется нарративными стратегиями, направленными на конструирование (псевдо)героических фигур, репрезентирующих прошлое и настоящее. Наряду с ретроспективными нарративными стратегиями, направленными на поддержание в коллективной памяти феноменов, связанных с героическими страницами истории, следует отметить значимость нарративов о героях современности. При этом отличительной особенностью, позволяющей отграничить подлинный героизм от его псевдогероических аналогов, является, на наш взгляд, возможность его детрансцендирования, десакрализации и этического травестирова-ния 2. По отношению к таким героическим фигурам, как воин или дароносец, возможно проявление кощунства, цинизма или иных способов этического нивелирования их ценности. Но невозможно лишить трансцендентного и сакрального измерения детрансцендированный и десакрализованный мир, переживший событие «смерти Бога». Соответственно, пародия или ирония в отношении таких фигур, рождаемых массовой культурой, как «супергерои», не воспринимается как кощунство или цинизм. Постгероическое общество, утратившее прорыв к трансцендентному, в изобилии тиражирует эпатажные поп-героические образы, которые лишены национально-культурных смыслов и исторических коннотаций. Выхолащивание сакрального содержания, присущего подлинному героизму, достигается путем наделения супергероев такой чертой, как бессмертие. Гектор в «Илиаде» погибает на поле сражения, как подобает герою. Но практически невозможно представить гибель супергероя – Бэтмена или Супермена. Кроме того, поп-героические фигуры воплощаются преимущественно в формах визуальной культуры, не требующих создания развернутых нарративов. Иными словами, лапидарное текстовое сообщение становится простым придатком к яркому зрительному образу.
Закономерен вопрос о возможности подлинно героического бытия в постгероическом обществе, продуцирующем псевдогероичес-кие образцы поведения в качестве миметических матриц. На наш взгляд, в условиях постгероического настоящего возможность дароносного и мироутверждающего потенци- ала героизма сохраняется на уровне индивидуальных жизненных стратегий. Почвой для произрастания элементов героизма служат реликты трансцендентного, которые сохраняются и в разбожествленном и «расколдованном» (М. Вебер) мире. Ницшеанская метафора «тени Бога» [Ницше 2014, 427] может служить объяснительным механизмом человеческого поведения, обусловленного «инерциальными эффектами метафизики». Вопреки непрестанным попыткам детрансцендиро-вания мира и профанации трагического пафоса культуры сохраняются возможности отыскания вечного в конечном, выбора миросозидающей и мироутверждающей жизненной стратегии, которая возвышает человека над бренностью его повседневного бытия.
Проведенный анализ показал, что складывающиеся черты постгероического общества, которое задает стандарты беспроблемного индивидуализированного существования и конструирует медийные стратегии самореализации, вместе с тем позволяют и более глубоко проникнуть в суть героического измерения культуры. Выявленные в настоящей статье характеристики героизма (включенность в ситуацию; дароносный характер; явленность в героических нарративах; способность утверждать новую парадигму деятельности) отграничивают его от псевдогероических феноменов и демонстрируют спектр возможностей реализации героического начала человека.
Модели самоотверженного поведения, которые некогда были возведены на уровень коллективных социальных практик, в постгероическом обществе наделяются статусом девиации 3 и утрачивают устойчивый миметический заряд. Псевдогероизм служит фоном, оттеняющим грани подлинного героизма, и одновременно симптомом неудовлетворенности общества своим наличным бытием. Отсутствие высоких смыслов и ценностей с избытком компенсируется эпатажными образами массовой поп-героической культуры. Таким образом, героическая стратегия существования в постгероическом обществе (будь то военный или гражданский героизм) предполагает преодоление гигантского сопротивления обстоятельств, не благоприятствующих взращиванию и культивированию героического духа.
Список литературы Героическое измерение постгероического общества
- Аполлодор 1972 - Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л.: Ленингр. отд-ние изд-ва «Наука», 1972.
- Бадью 2013 - Бадью А. Загадочное отношение философии и политики. М.: Ин-т общегумани-тар. исслед., 2013.
- Балаклеец 2021 - Балаклеец Н.А. Пути трансформации героизма в постгероическом обществе // Достоинство человека: актуальные измерения: коллектив. моногр. М.: Практ. медицина, 2021. С. 66-80.
- Бродский 2019 - Бродский А.И. Неизвестный солдат: философская апология войны и ее истоки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35, № 4. С. 551-562. DOI: https://doi.org/10.21638/ spbu17.2019.402
- Валь 2006 - Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. СПб.: Владимир Даль, 2006.
- Гаспарян 2013 - Гаспарян Д. Э. Стратегии детранс-цендирования в современной континентальной философии // Трансцендентное в современной философии: направления и методы. СПб.: Алетейя, 2013. С. 23-47.
- Гегель 2000 - Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000.
- Гегель 2007 - Гегель Г.В. Ф. Эстетика. В 2 т. Т. 1. СПб.: Наука, 2007.
- Генц 2003 - Генц Ф. О вечном мире // Трактаты о вечном мире. СПб.: Алетейя, 2003. С. 316-350.
- Гоббс 2001 - Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001.
- Зомбарт 2005 - Зомбарт В. Торгаши и герои: раздумья патриота // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 8-104.
- Ильин 2011 - Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И.А. Путь духовного обновления. М.: Ин-т рус. цивилизации, 2011. С. 740-906.
- Клаузевиц 1994 - Клаузевиц К. О войне. М.: Логос: Наука, 1994.
- Люттвак 2012 - Люттвак Э. Стратегия: Логика войны и мира. М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2012.
- Мосс 2011 -МоссМ. Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ 2011. С. 134-285.
- Мюнклер 2018 - Мюнклер Г. Осколки войны: Эволюция насилия в ХХ и XXI веках. М.: Кучково поле, 2018.
- Ницше 2014 - Ницше Ф. Полное собрание сочинений. В 13 т. Т. 3. М.: Культ. революция, 2014.
- Платон 2015 - Платон. Государство. М.: Акад. проект, 2015.
- Шамаю 2020 - Шамаю Г. Теория дрона. М.: Ад Маргинем Пресс: Музей соврем. искусства «Гараж», 2020.
- Das Heroische... web - Das Heroische in der neueren kulturhistorischen Forschung: Ein kritischer Bericht // http://hsozkult.geschichte.hu-berlin. de/index. asp?id=2216&view=pdf&pn=f orum&type=forschungsberichte