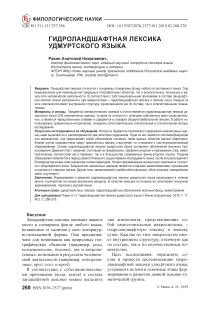Гидроландшафтная лексика удмуртского языка
Автор: Ракин Анатолий Николаевич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Ландшафтная лексика относится к основному словарному фонду любого естественного языка. Она предназначена для номинации как природных географических объектов, так и антропогенных, возникших в результате человеческой деятельности. В соответствии с субстанциональными признаками в составе ландшафтной лексики можно разграничить две макросистемы - гидроландшафтную лексику и лексику суши. Каждый из этих компонентов имеет внутреннюю структуру, различающиеся как по составу, так и количественными показателями. Материалы и методы. Предметом лингвистического анализа в статье является гидроландшафтная лексика удмуртского языка (239 номинативных единиц), которая не относится к категории собственных имен существительных, а является нарицательными словами и содержится в словарях общеупотребительной лексики. В работе использовались сравнительно-исторический, синхронно сопоставительный, описательный и статистический методы исследования. Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из предметно-понятийного содержания номинативных единиц нами выделяются и рассматриваются две категории гидронимов. Одна из них является системообразующей или доминантной, она представляет собой обозначения основных типов водных объектов данной территории. Вторая группа сосредоточена вокруг доминантных единиц и выступает по отношении к ним внутрисистемными образованиями. Основу гидроландшафтной лексики удмуртского языка составляют обозначения исконного происхождения. Древний пласт названий, состоящий из прауральских, прафинно-угорских и прапермских слов, имеет генетические соответствия как в пермских, так и в большинстве современных финно-угорских языков. Поздние образования появляются в период самостоятельного существования исследуемого языка, после его расхождения с близкородственными коми-зырянским и коми-пермяцким. Начало формирования иноязычного компонента относится к общепермской эпохе, большинство неисконных названий являются поздними заимствованиями, проникшими из русского и тюркских языков. Другие типы заимствований (прибалтийско-финские, обско-угорские, самодийские) здесь отсутствуют. Заключение. Формирование и развитие гидроландшафтной лексики удмуртского языка происходило в течение многих тысячелетий на основе внутренних ресурсов. В качестве внешних источников ее пополнения послужили древнеиранские, тюркские и русский языки.
Удмуртский язык, лексика, гидроландшафтные обозначения, иcконный фонд, заимствования
Короткий адрес: https://sciup.org/147217926
IDR: 147217926 | УДК: 811.511.131’237:556 | DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.03.268-276
Текст научной статьи Гидроландшафтная лексика удмуртского языка
Ландшафтная лексика занимает важное место в словарном фонде любого языка, независимо от наличия у него литературно-письменной формы. Она предназначена для номинации как природных географических объектов (например, река , возвышенность , болото ), так и антропогенных, возникших в результате человеческой деятельности (например, водохранилище , пруд , село , огород ).
В соответствии с субстанциональными признаками (вода, земля) в составе ландшафтной лексики можно выделить два компонента, представляющих собой самостоятельные макросистемы, – гидроландшафтную лексику и лексику суши. Каждая из этих макросистем имеет внутреннюю структуру, отличную как по составу, так и по количественным показателям.
Цель исследования: определить состав и провести систематизацию гидро-ландшафтной лексики удмуртского языка, установить истоки и основные этапы формирования и развития данной лексико-тематической группы.
268 ISSN 2076–2577 (print)
Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что технология разработки данной темы может быть использована на материале как родственных, так и неродственных языков.
Обзор литературы
Ландшафтная лексика пермских языков, в том числе удмуртского, до сих пор не являлась предметом специального исследования. К изучению данной темы в пермском языкознании приступили совсем недавно. Результаты исследований, проведенных на материале коми языков, к настоящему времени опубликованы в двух статьях [1; 2].
Материалы и методы
Основным источником фактического материала послужил словарный фонд удмуртского литературного языка, содержащийся в лексикографических изданиях (Борисов, 1991; РУС; УРС1). Дополнительные данные нами получены в результате опроса некоторых носителей удмуртского языка по специально разработанному вопроснику.
Сопоставительные примеры приводятся из словарей коми языков (КПРС; КПРС–РКПС; КРК; РКС). Диахроническая классификация исконной части ги-дроландшафтной лексики выполнена c использованием реконструкций из этимологических источников (КЭСКЯ; ЭСУЯ; Rédei, 1988; Uotila, 1938). Состав гидронимов иноязычного происхождения и их источники устанавливались с помощью исходных обозначений, выявленных из источников по русскому и тюркским языкам (РБС; РТС; СРЯ; Тараканов, 1993; ТРС).
Одним из инструментов разработки генезиса словарного состава, в том числе ландшафтной лексики, является сравнительно-исторический метод исследования. С его помощью определялись исконный фонд и иноязычный компонент. В составе исконной части такой подход позволяет установить хронологические
PHILOLOGY пласты древней лексики и выявить названия позднего происхождения, не имеющие генетических соответствий в других языках. Анализ слов неисконного происхождения преследует цель рассмотреть состав и источники заимствований. Нами применялись также синхронно-сопоставительный, описательный и статистический методы.
Результаты исследования и их обсуждение
Гидроландшафтная лексика удмуртского языка состоит из 239 номинативных единиц, относящихся к шести типам водных объектов: шур (‘река’), пичи шур (‘ручей’), ошмес (‘родник’), ты (‘озеро’), тышур (‘водоем’), тымет (‘пруд’). Обозначения более крупных водных пространств, не имеющихся на исследуемой территории, в лексикографических источниках даются, но они, как правило, являются не исконными словами, а заимствованиями, например: зарезь ‘море’ (УРС, с. 226), море ‘море’ (РУС, с. 461), океан ‘океан’ (УРС, с. 492). Следует отметить, что ландшафтные обозначения не относятся к категории собственных имен (топонимов), а являются нарицательными словами и всегда включаются в словари общеупотребительной лексики. Некоторые из них участвуют в образовании топонимов, например: Быгишур ‘река Быгинка’, Вишур ‘Вишурка’, Кече-шур ‘Кечевка’, Кыквишур ‘Кыквинка’; Порву , Ува – названия рек; Кузьты , Ко-тыресты , Юсьты – названия озер и т. д. В подобных случаях гидроландшафтные обозначения с топоосновами обычно пишутся слитно и считаются апеллятива-ми.
Удмуртская гидроландшафтная лексика не однородна по составу. Обозначения основных типов водных объектов ( шур ‘река’, пичи шур ‘ручей’, ты ‘озеро’, ты-шур ‘водоем’, ошмес ‘родник’, тымет ‘пруд’) являются системообразующими или доминантными словами. Остальная гидроландшафтная лексика сосредоточена вокруг доминантных названий и образует соответствующие подсистемы или внутрисистемные разряды.
'Xu ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
На материале удмуртского языка можно выделить следующие группы подсистемных обозначений:
-
1) названия составных частей водных объектов, например: öр ‘русло’ (УРС, с. 503), пыдэс ‘дно’ (УРС, с. 568), вудур ‘берег’ (УРС, с. 142), йыл ‘исток’ (УРС, с. 263), усён ‘устье’ (УРС, с. 702), зылüнты ‘плес’ (УРС, с. 234) и т. д.;
-
2) слова, обозначающие гидрообъекты, например: вай ‘приток’ (УРС, с. 99), вужöрты ‘старица’ (УРС, с. 143), сюм ‘залив’ (УРС, с. 628), висöр ‘проток’ (УРС, с. 123), вуусён ‘водопад’ (УРС, с. 146) и др.;
-
3) названия, отражающие отличительные черты объектов номинации, их конфигурацию, например: изо ярдур ‘каменистый берег’, ӵошкыт пыдэс ‘ровное дно’, меӵ ярдур ‘крутой берег’, шурберыг ‘изгиб реки’, чутыръяськыса виясь шур ‘извилистый ручей’ и др.;
-
4) названия, выражающие те или иные количественные признаки обозначаемых объектов, например: паськыт шур ‘широкая река’, лазег пичи шур ‘мелкий ручей’, бадӟым ты ‘большое озеро’, мур вукож ‘глубокий омут’ и др.;
-
5) названия, выражающие качество и свойства воды, ее уровень в тот или иной период времени, характер протекания, например: дун вуо ты ‘олигофторное озеро’, сумедо ты ‘илистое озеро’, ог бызись шур ‘быстрая река’, тудву ‘половодье’ (УРС, с. 657), вутудӟон ‘паводок’ (УРС, с. 146), вулэн кошкемез ‘спад воды’, кöс ву ‘межень’, виз ‘стрежень’ (УРС, с. 118) и др.;
-
6) названия, указывающие на наличие препятствий на пути водного потока, на ее вихревое движение в местах столкновения встречных течений, например: уть ‘порог’ (УРС, с. 706), вуберган ‘водоворот’ и т. д.;
-
7) названия, указывающие на местоположение объекта номинации, например: нюлэс шур ‘лесная речка’, ардо ‘небольшое озеро на сыром лугу’ (УРС, с. 46), ту-пал ‘тот берег’ (УРС, с. 662), таись ярдур ‘этот берег’ и т. д.
Примеры, приведенные выше, свидетельствуют о том, что часть из них является общей для всех или многих доминантных объектов, например: пыдэс ‘дно
(реки, ручья, озера, водоема)’, ву ‘вода (реки, ручья, озера, родника)’, йыл ‘исток (реки, ручья)’ и т. д. Для конкретизации семантики и соответственно обозначаемых объектов номинации они употребляются, как правило, в сочетании с системообразующими названиями, например: шур ву ‘речная вода’, пичи шур ву ‘ручьевая вода’, ты ву ‘озерная вода’, ошмес ву ‘родниковая вода’; шур пыдэс ‘дно реки’, пичи шур пыдэс ‘дно ручья’, ты пыдöс ‘дно озера’ и т. д.
Далее рассмотрим состав гидроланд-шафтной лексики удмуртского языка более подробно.
-
I. Системообразующие гидронимы
-
1. Шур ‘река’ (УРС, с. 783), кз. шор ‘ручей’ (КРК, с. 741), кп. шор ‘ручей’ (КПРС, с. 565) < общеп. * šùr ‘ручей, поток, течение, река’ (КЭСКЯ, с. 322); генетическое соответствие также имеется в венгерском языке; ф.-у. * šerɜ ( šärɜ ) ‘ручей’ (Rédei, 1988, с. 499). В удмуртском языке произошло изменение семантики исходного пра-финно-угорского слова: ручей > река.
-
2. Ю -: ю-шур ‘река’ (КЭСКЯ, с. 334), кз. ю ‘река’ (КРК, с. 773), кп. ю ‘река’ (КПРС, с. 586) < общеп. * ju ‘река’ (КЭСКЯ, с. 334); генетические соответствия также имеются в финском, эстонском, саамском, эрзя-мордовском, марийском, хантыйском, мансийском, венгерском, ненецком, селькупском, камасинском языках; ур. * joke ‘река’ (Rédei, 1988, с. 99). В словарях современного удмуртского языка гидроним ю-шур не приводится, вместо него в настоящее время употребляется слово шур ‘река’, которое с коми названиями ю этимологически не связано.
-
3. Ты ‘озеро’ (УРС, с. 132), кз. ты ‘озеро’ (КРК, с. 671), кп. ты ‘озеро’ (КПРС, с. 499) < общеп. * tu ‘озеро’ (КЭСКЯ, с. 292); генетические соответствия также имеются в хантыйском, мансийском, венгерском, ненецком, селькупском, камасин-ском языках; ур. towɜ ‘озеро’ (Rédei, 1988, с. 533).
-
4. Ошмес ‘родник’ (УРС, с. 325), кз. мöс ‘родник’ (КРК, с. 402), кп. öшмöс уст. ‘ключ, источник’ (КПРС, с. 309) < общеп. * ȯšmɜs ‘источник, ключ’ (КЭСКЯ, с. 213).
-
5. Тымет ‘пруд’ (УРС, с. 669), кз. тымöд ‘загородка по бокам силка’, ‘завал (при охоте на крупных животных)’ (КРК, с. 673) < общеп. * tumet ‘загородка, запруда’ (КЭСКЯ, с. 293). В коми-пермяцком языке генетическое соответствие отсутствует. В качестве гидроландшафтного обозначения данное слово употребляется только в современном удмуртском языке, поэтому его следует считать собственно удмуртской новацией.
-
6. Ӵыпет ‘пруд’ (УРС, с. 756), кз. тшуп ‘учуг; рыболовная загородка, запруда’ (КРК, с. 669) < общеп. * čup- ‘рыболовная загородка; пруд’. Удмуртское и коми слова являются отглагольными образованиями от * čupini (* čupini ) ‘запрудить, загородить’ (кз., кп. тшупны ‘зарубить; рубить’, удм. ӵыпыны ‘запрудить, прудить’) (КЭСКЯ, с. 291).
-
7. Пруд ‘пруд’ (РУС, с. 551) < рус., ср.: пруд ‘небольшой искусственный водоем, а также место разлива реки, ручья перед запрудой’ (СРЯ, т. 3, с. 549).
По мнению коми этимологистов, первоначально данный гидроним являлся сложным словом, компоненты которого были синонимами (‘приток’ – ‘источник’), но уже в общепермское время они деэтимологизировались (КЭСКЯ, с. 213). В современном коми-зырянском языке это название родника употребляется без первого компонента.
Таким образом, в составе рассмотренной группы системообразующих гидронимов удмуртского языка, состоящей из 7 обозначений, лишь одно слово является заимствованием ( пруд ), остальные представляют собой исконные образования, унаследованные из прауральского ( ю- , ты ) либо из прафинно-угорского ( шур ), либо из прапермского ( ошмес, тымет, ӵыпет ) языка.
-
II . Внутрисистемная гидроландшафтная лексика
Данная категория обозначений по сравнению с предыдущей группой более разнообразна по составу и намного превосходит ее в количественном отношении, сюда относятся 232 номинативные единицы. Как и предыдущая группа, она со-
PHILOLOGY стоит из исконных названий и заимствований.
-
1. Исконный фонд внутрисистемной гидроландшафтной лексики с точки зрения происхождения представляет собой многослойную структуру. В соответствии с хронологией возникновения в его составе, как и во многих других разрядах словарного состава исследуемого языка, различаются допермские, общепермские, пракоми и собственно удмуртские образования. Допермские, прапермские и пра-коми обозначения составляют общее наследие всех трех или двух современных пермских языков. Собственно удмуртские – поздние названия, возникшие после распада прапермской языковой общности.
К числу гидронимов допермского происхождения в удмуртском языке относятся два слова прауральского и прафинно-угор-ского происхождения:
ву ‘вода’ (УРС, с. 141), кз. ва ‘вода’ (КРК, с. 76), кп. ва ‘вода’ (КПРС, с. 52) < общеп. *va ( vå ) ‘вода’ (КЭСКЯ, с. 46); генетические соответствия имеются также в финском, эстонском, мордовских, марийском, мансийском, венгерском, ненецком, камасинском языках; ур. * wete ‘вода’ (Rédei, 1988, с. 570).
калым ‘залив в реке (озере); омут; лужа’ (УРС, с. 277), кз. тыкöла ‘небольшое озеро (образованное из пересохшей старицы); мелкий залив’ (КРК, с. 672) < общеп. * kȯl- ‘маленький залив, маленькое озеро’ (КЭСКЯ, с. 140). В коми-пермяцком языке генетическое соответствие отсутствует. Коми-зырянский пример состоит из двух частей: ты ‘озеро’ (см. этимологию выше) и - кöла (деэтимологизированное слово, в современном коми языке самостоятельно не употребляется и никак не осмысливается). Удмуртское и коми-зырянское названия сопоставляются с хантыйскими и мансийскими генетическими словами; ф.-у. * kälɜ ‘(заболоченное) озеро, залив’ (Rédei, 1988, с. 134).
Что касается обозначений прафин-но-пермского происхождения, сохранившихся в других пермских языках, в современном удмуртском языке они не употребляются (видимо, они были утрачены или заменены другими словами). В качестве доказательства данного факта можно привести следующие примеры:
ф.-п. * woša ‘разветвление (реки, дороги)’ (Rédei, 1988, с. 825) > общек. * вож ‘приток’ (КЭСКЯ, с. 60) > кз. вож ‘приток’ (КРК, с. 109), кп. вож ‘приток’ (КПРС, с. 77). В удмуртском языке приток обозначается словом чальдэт (УРС, с. 467), которое с коми названиями этимологически не связано;
ф.-п. * Хз\з- (КЭСКЯ, с. 89) > общек. * ju | ‘омут’(КЭСКЯ, с. 89) > кз. джум ‘омут’ (КРК, с. 175), кп. джум- : джумдор ‘обрыв, крутой берег’ (КПРС, с. 118);
ф.-п. * jirɜ ( j0rɜ ) ‘глубокое место в воде’ (Rédei, 1988, с. 635) > общек. * j 2 r ‘омут’ (КЭСКЯ, с. 111) > кз. йир ‘омут’ (КРК, с. 247), кп. йир ‘омут’ (КПРС, с. 157). Последние два примера коми языков генетических соответствий в удмуртском языке тоже не имеют, там значение ‘омут’ выражается словом кож (УРС, с. 203).
Гидронимическая лексика общепермского происхождения сформировалась в прапемскую эпоху. Номинативные единицы данной диахронической группы употребляются только в современных пермских языках и дальнеродственных соответствий не имеют. Кроме однословных структурных типов сюда относятся составные обозначения.
Подгруппа однословных гидронимов состоит из следующих названий:
визыл ‘стремнина’ (УРС, с. 118), кз. ви-зув ‘течение, быстрина’ (КРК, с. 101), кп. визыв ‘быстрое течение, быстрина’ (КПРС, с. 73) < общеп. * vizvl- ‘быстрина’ (КЭСКЯ, с. 56);
öр ‘русло’ (УРС, с. 503), кз. ворга ‘русло’ (КРК, с. 114), кп. öр ‘русло’ (КПРС, с. 306). В «Кратком этимологическом словаре коми языка» В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева общепермская праформа не реконструируется (КЭСКЯ, с. 63). Коми-зырянское слово является суффиксальным образованием. Непроизводная форма содержится в словосочетании во-рйысь петны ‘разлиться, выйти из берегов (о реке)’ (КРК, с. 396), ‘букв.: выйти из русла’;
йыл ‘исток, верховье’ (УРС, с. 175), кз. йыв ‘исток’ (КРК, с. 317), кп. йыв ‘верховье, исток’ (КПРС, с. 160) < общеп. * j8l ‘верховье’ (КЭСКЯ, с. 113);
чальды ‘приток реки’ (УРС, с. 719), кз. чаль диал. ‘ответвление, рукав (ручья)’ (КРК, с. 695), чалльöг ‘приток ручья’ (КЭСКЯ, с. 301), кп. чальöг ‘ответвление (оврага), ложбинка’ (КПРС, с. 525). Все перечисленные гидронимы пермских языков, видимо, имеют один и тот же этимологический источник: общеп. * ёal'- ‘ответвление, рукав (реки)’ (КЭСКЯ, с. 301). В коми-пермяцком языке, видимо, произошло изменение первоначального гидронимического значения данного слова, и оно перешло в разряд ландшафтной лексики суши.
Составные образования общепермского происхождения, как правило, состоят из двух слов, которые имеют самостоятельное употребление, в этимологических изданиях не рассматриваются, несмотря на их наличие во всех пермских языках и совпадение как по семантике, так и по структуре. Эти примеры свидетельствуют о том, что они могут быть такими же древними названиями, как и однословные лексические единицы, и могут подвергаться этимологизации. Данная группа гидронимов состоит из следующих номинативных единиц:
колан инты ‘брод’ (УРС, с. 253), кз. келанiн ‘брод’ (КРК, с. 267) < общеп.* kelan-in ‘брод’. В коми-пермяцком языке генетическое соответствие не употребляется, данный гидрообъект здесь обозначается словом вуджанiн (см.: КПРС, с. 87);
кöс ву ‘межень, мелководье’, кз. кос ва ‘межень’ (КРК, с. 293), кп. кöс ва ‘межень, мелководье’ < общеп. * kÉsk-va ‘межень, мелководье’;
ты дур ’берег озера’ (УРС, с. 191), кз. ты дор ‘берег озера’ (КРК, с. 194), кп. ты дор ‘берег озера’ < общеп. * t8-dor ‘берег озера’;
ты йыл ‘верховье озера’, кз. ты йыв ‘верховье озера’ (КРК, с. 253), кп. ты йыв ‘верховье озера’ < общеп. * t8-j8l ‘верховье озера’;
ты пыдэс ‘дно озера’, кз. ты пыдöс ‘дно озера’, кп. ты пыдöс ‘дно озера’ < общеп. * t8-p8des ‘дно озера’.
В диахронической иерархии исследуемой лексической системы самый верхний (или поздний) слой составляют собственно удмуртские названия, которые возникли после отделения от коми-зырян и коми-пермяков.
На основе структурных особенностей в группе собственно удмуртских обозначений можно выделить три типа образований: однословные (непроизводные и производные) гидронимы; композиты или двучленные названия в слитном написании; составные номинативные единицы, состоящие из двух или трех слов.
Первая подгруппа состоит из следующих слов: вай ’приток’ (УРС, с. 99), виз ‘стрежень; стремнина; перекат’ (УРС, с. 118), дур ‘берег’ (УРС, с. 191), кож ‘омут’ (УРС, с. 309 ), кöс ‘мель’ (УРС, с. 329), ныр ‘коса; отмель’ (УРС, с. 474); бызён ‘течение’ (УРС, с. 92), колан ‘брод’ (УРС, с. 311), кырет ‘канал’ (УРС, с. 377), пöзён ‘ключ, родник’ (УРС, с. 543), усён ‘устье (реки)’ (УРС, с. 702) и др.
Примеры обозначений композитной структуры: армес ‘родник’ (УРС, с. 46), вайшур ‘приток’ (УРС, с. 99), вубер-ган ‘водоворот’ (УРС, с. 142), вувыжон ‘брод’ (УРС, с. 142), вужöрты ‘старица’ (УРС, с. 142), вукошкон ‘поток’ (УРС, с. 144), вупукон ‘лужа’ (УРС, с. 145), вусин ‘ключ, родник’ (УРС , с . 146), зылüнты ‘плес’ (УРС, с. 234), ӟоздор ‘берег (реки)’ (УРС, с. 242), йыразь ‘верховье’ (УРС, с. 266), мувис ‘пролив’ (УРС, с. 439), öрвай ‘рукав (реки)’ (УРС, с. 503), öрты ‘старица’ (УРС, с. 504), тудву ‘половодье; паводок’ (УРС, с. 657), тупал ‘тот берег’ (УРС, с. 556), тышур ‘водоем’ (УРС, с. 674), шурберыг ‘изгиб реки’ (УРС, с. 783) и др.
Примеры составных обозначений, образованных из двух слов: бадӟым ву ‘половодье’ (УРС, с. 54), ву канава ‘водосточная канава’ (УРС, с. 277), ву пыдэс ‘дно реки’, герӟась öр ‘проток’ (УРС, с. 503), из выр ‘порог’ (РУС, с. 773), кöльыё пы-дэс ‘каменистое дно’ (РУС, с. 347), куа-сег азь ‘брод’ (УРС, с. 339), лазег инты ‘мель’ (УРС, с. 253), лазег шур ‘мелкая река’ (РУС, с. 437), мур ты ‘глубокое озеро’ (УРС, с. 666), пичи шур ‘ручей’ (УРС,
-
с. 530, 783), пукись ты ‘бессточное озеро’, таба пыдэс ‘ровное дно’, тудӟем ву ‘половодье’ (УРС, с. 567), тулыс ву ‘половодье’ (РУС, с. 758), ты дур ‘берег озера’ (УРС, с. 191), ӵошкыт пыдэс ‘ровное дно’ и др.
Примеры составных обозначений, образованных из трех слов: ву возён инты ‘водоем’ (РУС, с. 105), ву ул из ‘порог’ (РУС, с. 773), ог кошкись ву ‘стремнина’ (РУС, с. 1081), чутыръяськкыса кошкись шур ‘извилистая река’ (РУС, с. 316), шур вöзьысь ты ‘пойменное озеро’, шурлэн кожон интыез ‘изгиб реки’ (РУС, с. 317) и др.
Особенностью рассмотренных выше примеров является то, что они распространены только на территории проживания удмуртов, в других пермских языках употребляются совсем иные обозначения, ср.: удм. öрты ‘старица’ – кз. важ ю сёртас ‘старица’ (РКС, с. 930), кп. арай ‘старица’ (КПРС, с. 19), удм. вувыжон ‘брод’ – кз. кебан ‘брод’ (РКС, с. 58), кп. ваын непы-дын места ‘брод’ (КПРС–РКПС, с. 149), удм. лазег инты ‘мель’ – кз. ляпкыдiн ‘мель’ (КРК, с. 379), кп. непыдын ‘мель’ (КПРС, с. 271), удм. мур ты ‘глубокое озеро’ – кз. джуджыд ты ‘глубокое озеро’ (КРК, с. 175), кп. пыдын ты ‘глубокое озеро’ (КПРС, с. 499) и др.
Составной частью гидроландшафтной лексики удмуртского языка является иноязычный компонент. Он состоит из ранних и поздних заимствований. К числу ранних или древних гидронимов неисконного происхождения относится лишь одно слово, проникшее в прапермскую эпоху из иранских языков: удм. зарезь ‘море’ (УРС, с. 226), кз. саридз ‘море’ (КРК, с. 548), кп. саридз уст. ‘южное море’ (КПРС, с. 419) < общеп. * sarVǯ' < иранск., ср.: авест. zrayah- , др.-инд. jráyas ( ǯ'áryas- ) (КЭСКЯ, с. 249). В удмуртском и коми-зырянском языках это древнее заимствование входит в активный словарный запас. В коми-пермяцком языке является устаревшим, вместо него широкое распространение получило русское слово море (КПРС, с. 253).
Группа поздних неисконных обозначений состоит из двух типов заимствований:
Cru' ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 1) слова русского происхождения; 2) слова, проникшие из тюркских языков.
В составе гидроландшафтной лексики удмуртского языка русскими заимствованиями являются 8 слов:
бассейн ‘бассейн’ (УРС, с. 59) < рус., ср.: бассейн ‘совокупность притоков реки, озера и т. п., а также площадь стока поверхностных и подземных вод в водоем (реку, озеро, море)’ (СРЯ, т. 1, с. 64).
берог диал. ‘берег’ (УРС, с. 66) < рус., ср.: берег ‘край земли у водной поверхности’ (СРЯ, т. 1, с. 79);
водоём ‘водоем’ (РУС, с. 105) < рус., ср.: водоём ‘место скопления воды’ (СРЯ, т. 1, с. 193);
залив ‘залив’ (УРС, с. 225) < рус., ср.: залив ‘вдавшаяся в сушу часть океана, моря или озера’ (СРЯ, т. 1, с. 537);
канава ‘канава’ (УРС, с. 277) < рус., ср.: канава ‘неглубокий и неширокий ров’ (СРЯ, т. 2, с. 25);
канал ‘канал’ (УРС, с. 277) < рус., ср.: канал ‘наполненный водой искусственное русло, предназначенное для судоходной связи между отдельными реками, озерами и морями, а также для целей водоснабжения, отвода или стока воды’ (СРЯ, т. 2, с. 25);
кусо ‘коса речная’ (УРС, с. 359) < рус., ср.: коса ‘длинная, узкая отмель, идущая от берега, или низменный узкий мыс’ (СРЯ, т. 2, с. 110);
пруд ‘пруд’ (УРС, с. 551) (см. выше).
Как свидетельствуют рассмотренные примеры, при их освоении носителями удмуртского языка каких-либо фонетических, морфологических и семантических изменений не произошло, за исключением слов берог и кусо .
Группа тюркских заимствований в системе гидроландшафтной лексики удмуртского языка также занимает незначительное место – 5 слов:
ӟырганак диал. ‘канава’ (УРС, с. 247) < тюрк., ср.: тат. ерганак ‘промоина, рытвина, овражек’ (ТРС, с. 147);
тугай диал. ‘изгиб реки’ (УРС, с. 656) < тюрк., ср.: тат. тугай ‘извив, излучина реки’ (ТРС, с. 551);
чешме диал. ‘родник’ (УРС, с. 727) < тюрк., ср.: тат. чишмǝ ‘родник’ (ТРС, с. 639);
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ авест. – авестийский язык башк. – башкирский язык диал. – диалектное слово др.-инд. – древнеиндийский язык иранск. – иранские языки кз. – коми-зырянский язык кп. – коми-пермяцкий язык общек. – общекоми язык-основа общеп. – общепермский язык-основа рус. – русский язык тат. – татарский язык тюрк. – тюркские языки удм. – удмуртский язык ур. – уральский праязык уст. – устаревшее слово ф.-п. – финно-пермский праязык ф.-у. – финно-угорский праязык Борисов, Борисов Т. К. Удмурт кыллюкам = Толко-1991 – вый удмуртско-русский словарь. Ижевск, 1991. 384 с.
КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь. Москва, 1985. 624 с.
КПР– Коми-пермяцко-русский и русско-ко- РКПС – ми-пермяцкий словарь. Кудымкар, 1993. 288 с.
КРК – Коми-роч кывчукöр. Сыктывкар, 2000. 816 с.
КЭСКЯ – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999. 430 с.
РБС – Русско-башкирский словарь. Москва, 1954. 600 с.
РКС – Русско-коми словарь. Сыктывкар, 2003.
1104 с.
РТС – Русско-татарский словарь / под ред.
Ф. А. Ганиева. Москва, 1984. 736 с.
РУС – Русско-удмуртский словарь. Москва,
1956. 1360 с.
СРЯ – Словарь русского языка / под ред. А. П. Ев геньевой. Москва, 1981. Т. 1. 689 с.; 1982. Т. 2. 736 с.; 1983. Т. 3. 752 с.
Тараканов, Тараканов И. В. Удмуртско-тюркские язы- 1993 – ковые взаимосвязи. Ижевск, 1993. 804 с. ТРС – Татарско-русский словарь. Москва, 1966. 863 с.
УРС – Удмуртско-русский словарь. Ижевск, 2008. 925 с.
ЭСУЯ – Этимологический словарь удмуртского языка. Ижевск, 1988. 240 с.
Rédei, Rédei K. Uralisches etymologisches
1988 – Wörterbuch. Budapest, 1988. Band 1–2. 906 s.
Uotila, Uotila T. E. Syrjänische Chrestomathi mit T. E. – grammatikalischem und etymologischem Wörterverzeichniss. Helsinki, 1938.
ыльгы диал. ‘канава’ (УРС, с. 791) < тюрк., ср.: тат. ɵлге ‘канава’, башк. ɵлгɵ ‘канава’ (Тараканов, 1993, с. 152);
яр ‘берег’ (Борисов, 1991, с, 369) < тюрк., ср.: тат. яр ‘берег’ (РТС, с. 36), башк. яр ‘берег’ (РБС, с. 33).
Как видно из рассмотренных выше примеров тюркского происхождения, только слово яр получило в удмуртском языке повсеместное распространение, остальные употребляются в диалектной речи.
Заключение
Следует отметить, что гидроланд-шафтная лексика удмуртского языка представляет собой самостоятельную лингвистическую систему со своим составом объектов номинации и предназначенным для их обозначения конкретным набором номинативных единиц. Данная отрасль основного словарного фонда имеет древние истоки, ее формирование и развитие происходило на важнейших этапах эволюции удмуртского языка: в прауральскую, прафинно-угорскую и прапермскую эпоху, а также позднее, после расхождения с носителями коми языков. Исследование показало, что гидроландшафтная лексика характеризуется наличием в ее составе двух различающихся по предметно-понятийному содержанию групп названий. Одна из них является системообразующей или доминантной, т. е. обозначающей основные типы находящихся на данной территории водных объектов. Вторая группа гидронимов, более многочисленная и разнообразная по составу, сосредоточена вокруг доминантных единиц и составляет по отношению к ним внутрисистемные разряды. Составной частью гидронимической лексики являются заимствования. Этот компонент начал складываться в общепермскую эпоху, о чем свидетельствует слово древнеиранского происхождения зарезь ‘море’. Остальные неисконные слова являются поздними заимствованиями, имеющими русское или тюркское происхождение.
Список литературы Гидроландшафтная лексика удмуртского языка
- Ракин А. Н. Гидроландшафтная лексика коми языка // Северно-русские говоры. Санкт-Петербург, 2018. Вып. 17. С. 107-122.
- Ракин А. Н. Гидроландшафтная лексика коми-пермяцкого языка // Вестник Марийского государственного университета. 2019. Т. 13, № 2. С. 252-261.