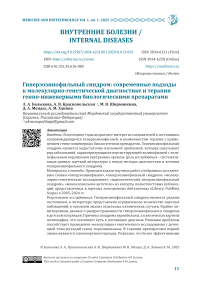Гиперэозинофильный синдром: современные подходы к молекулярно-генетической диагностике и терапии генно-инженерными биологическими препаратами
Автор: Балыкова Л.А., Краснопольская А.В., Ширманкина М.В., Мендес Д.А.Т., Ханина А.М.
Журнал: Медицина и биотехнологии @medbiosci
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 1 т.1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В последние годы возрастает интерес исследователей к состояниям, сопровождающимся гиперэозинофилией, и возможностям терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов. Гиперэозинофильный синдром является недостаточно изученной проблемой, которая охватывает ряд заболеваний, характеризующихся персистирующей эозинофилией с эозинофильным поражением внутренних органов. Цель исследования - систематизация данных научной литературы о новых методах диагностики и лечения гиперэозинофильного синдрома.
Гиперэозинофилия, гиперэозинофильный синдром, молекулярно-генетические исследования, идиопатический гиперэозинофильный синдром, моноклональное антитело
Короткий адрес: https://sciup.org/147248220
IDR: 147248220 | УДК: 616.155.35:616-085 | DOI: 10.15507/3034-6231.001.202501.013-023
Текст обзорной статьи Гиперэозинофильный синдром: современные подходы к молекулярно-генетической диагностике и терапии генно-инженерными биологическими препаратами
ISSN 3034-6231 (Print)
EDN: ISSN 3034-6258 (Online)
УДК 616.155.35:616-085
Финансирование : подготовка исследования не имела внешнего финансирования.
Конфликт интересов : авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Hypereosinophilic Syndrome: Contemporary Approaches to Molecular-Genetic Diagnostics and Gene-Engineered Biologic Therapy
L. A. Balykova, A. V Krasnopolskaya * , M. V. Shirmankina,
D. A. Mendes, A. M. Khanina
National Research Mordovia State University (Saransk, Russian Federation)
-
* akrasnopolskaja@gmail.com
Introduction . In recent years, there has been a growing interest among researchers in conditions associated with hypereosinophilia and the therapeutic potential of genetically engineered biological agents. Hypereosinophilic syndrome remains an insufficiently studied issue encompassing a spectrum of disorders characterized by persistent eosinophilia and eosinophilic involvement of internal organs. The aim of this study is to systematize scientific literature data on novel diagnostic and treatment approaches for hypereosinophilic syndrome.
Materials and methods. A comprehensive analysis was conducted on research publications selected based on the keywords “hypereosinophilia”, “hypereosinophilic syndrome”, “molecular-genetic studies”, “idiopathic hypereosinophilic syndrome” and “monoclonal antibody” from a cohort of full-text articles available in the electronic scientific databases eLibrary, PubMed, and Scopus between 2005 and 2024.
Results. The hypereosinophilic syndrome is a rare condition, with a limited number of scientific observations available in the literature, primarily consisting of analyses of individual clinical cases. Data on the prevalence of hypereosinophilic syndrome in the pediatric population are extremely scarce. The causes of the syndrome are variable, and the clinical presentation is polymorphic, complicating the diagnostic process. Molecular-genetic research, including the detection of tyrosine kinase gene mutation types, contributes to solving this issue. First-line treatment involves glucocorticosteroids. It has been shown that genetically engineered biological agents are more effective in the treatment of primary hypereosinophilic syndrome, with their pathogenetically justified use associated with therapeutic progress.
Discussion and conclusion. The hypereosinophilic syndrome is more commonly observed in young and middle-aged patients. Diagnostic criteria include persistent hypereosinophilia with organ damage or dysfunction, as well as the exclusion of other myeloid neoplasms. The use of genetically engineered biologic agents enables overcoming refractoriness, reducing the need for glucocorticosteroids, and preventing the development of drug-related complications.
Funding : the preparation of the research did not involve external funding.
Conflict of interest : the authors declare no conflict of interest.
Введение. Эозинофилы - это тип специализированных миелоидных клеток (эозинофильных гранулоцитов) в периферической крови, которые происходят из мультипотентных гемопоэтических стволовых клеток. Развитие, миграция и функция эозинофилов жестко регулируются сетями факторов транскрипции, факторов роста, цитокинов и хемокинов. У здоровых людей количество эозинофилов в периферической крови колеблется от 0,05 до 0,5х109/л (50-500/мкл). Эозинофилы дифференцируются из миелоидных предшественников в костном мозге под контролем гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), интерлейкина IL-3 и IL-5 – цитокинов, действующих как факторы роста и ингибиторы апоптоза [1].
Термин «гиперэозинофильный синдром» был предложен для объединения патологий с рядом тесно связанных расстройств, характеризующихся хронически повышенным уровнем эозинофилов в периферической крови и повреждением органов, связанным с эозинофильной инфильтрацией [2]. Позднее «идиопатический» гиперэозинофильный синдром (ГЭС) определили как устойчивую эозинофилию периферической крови неизвестного происхождения, превышающую 1,5х109/л в течение более 6 последовательных месяцев и ответственную за развитие дисфункции и/или повреждения органов [3]. В настоящее время термин «идиопатический» используется исключительно при ГЭС с неизвестной этиологией, а термин «гиперэозинофильный синдром(ы)» - для охвата гетерогенной группы заболеваний с выраженной гиперэозинофилией и эозинофильной инфильтрацией тканей, включая варианты ГЭС с хорошо охарактеризованными патогенными механизмами, семейный ГЭС и органоспецифическое эозинофильно-опосредованное заболевание (эозинофильный гастроэнтерит, эозинофильная пневмония и др.) [4].
Цель исследования – систематизировать данные научнои литературы о новых методах диагностики и лечения гиперэозинофильного синдрома.
Материалы и методы. Проведен анализ научных работ, отобранных по ключевым словам «гиперэозинофилия»,
«гиперэозинофильный синдром», «молекулярно-генетические исследования», «идиопатический гиперэозинофильный синдром», «моноклональное антитело» из когорты полнотекстовых публикаций, представленных в научных электронных библиотеках eLibrary, PubMed, Scopus в 2005-2024 гг. Обзор литературных источников осуществлялся по классической схеме описания заболевания: определение, эпидемиология, классификация, патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение. Особое внимание было уделено комплексу диагностических мероприятий и стратегии терапии ГЭС.
Результаты исследования. Эпидемиология ГЭС. ГЭС чаще диагностируют в молодом и среднем возрасте, имеются свидетельства доминирования мужчин среди заболевших [3]. Распространенность достоверно неизвестна. За период с 2004 по 2015 гг. показатель заболеваемости ГЭС составил 0,4 случая на 100 тыс. чел. [5].
Классификация ГЭС была пересмотрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2008 г., подтверждена в 2016 и 2022 гг. [6; 7]. Вследствие расширения списка молекулярно-генетически определенных первичных эозинофилий, возникающих в результате изменения генов тирозинкиназы, и для уточнения молекулярно-генетических изменений, приводящих к этим новообразованиям, основная категория «Миелоидные / лимфоидные новообразования с эозинофилией и перестройкой PDGFRA, PDGFRB или FGFR1 или с PCM1-JAK2» была переименована в «Миелоидные / лимфоидные новообразования с эозинофилией и слиянием генов тирозинкиназы» (MLN-eo-TK) [8; 9]. Диагностическими критериями этой группы заболеваний являются миелоидное и/или лимфоидное новообразование, обычно с выраженной эозинофилией, а иногда с нейтрофилией или моноцитозом и одним из следующих признаков:
-
1. Наличие гена слияния FIP1L1::PDGFRA (или вариантного гена слияния, включающего PDGFRA в хромосомной области 4q12);
-
2. Наличие транслокации в области 35q32, вовлекающей ген PDGFRB;
-
3. Наличие транслокации в области 8q11, вовлекающей ген FGFR1;
-
4. Наличие транслокации в области 9p24, вовлекающей ген JAK2;
-
5. Наличие транслокации в области 13q12, вовлекающей ген FLT3;
-
6. Наличие t(9;12)(q34.1;p13.2) в гене слияния ETV6::ABL1;
-
7. Наличие других определенных генов слияния тирозинкиназы, таких как ETV6::FGFR2; ETV6::LYN; ETV6::NTRK3; RANBP2::ALK; BCR::RET; FGFR1OP::RET [10; 11] (таблица).
Хроническии эозинофильныи леикоз (ХЭЛ) определяется отсутствием филадель-фиискои хромосомы и перестроек, наблюдаемых при MLN-eo-TK, исключением других острых или хронических первичных новообразовании костного мозга, связанных с эозинофилиеи, таких как острыи миело-идныи леикоз, миелодиспластическии синдром, системныи мастоцитоз, классические миелопролиферативные новообразования, и перекрестных расстроиств [10]. Диагностическими критериями ХЭЛ являются:
Т а б л и ц а. Классификация гиперэозинофильного синдрома
T a b l e. Classification of hypereosinophilic syndrome
Нозологическая форма / Nosological form
Диагностические критерии / Diagnostic criteria
Миелоидные / лимфоидные новообразования с эозинофилией и генами слияния тирозинкиназы /
Myeloid / lymphoid neoplasms with eosinophilia and tyrosine kinase fusion genes
Хронический эозинофильный лейкоз / Chronic eosinophilic leukemia
Идиопатический гиперэозинофильный синдром / Idiopathic hypereosinophilic syndrome
-
1. Устойчивая гиперэозинофилия (количество эозинофилов > 1,5х109/л) / Persistent hypereosinophilia (eosinophil count > 1.5x109/l)
-
2. Повреждение / дисфункция органов, обусловленная эозинофилией / инфильтрацией тканей эозинофилами /
-
3. Исключение реактивной эозинофилии, лимфоцитарного варианта гиперэозинофильных синдромов, других миелоидных новообразований / Exclusion of reactive eosinophilia, lymphocytic variant of hypereosinophilic syndromes, other myeloid neoplasms
Organ damage /dysfunction due to eosinophilia / tissue infiltration by eosinophils
Источник : составлено авторами статьи по материалам [9–11].
Source : compiled by the authors of the article based on the materials [9–11].
-
1. Устойчивая гиперэозинофилия (эозинофилы > 1,5х109/л и > 10 %) в течение 4 недель;
-
2. Наличие клональной аномалии (по цитогенетике и/или соматической мутации по NGS);
-
3. Аномальная морфология костного мозга (мегакариоцитарная и/или эритроидная дисплазия) или наличие повышенного количества бластов (≥ 5 % в костном мозге и/ или ≥ 2 % в периферической крови, но < 20 % в периферической крови и костном мозге);
-
4. Несоответствие критериям ВОЗ для другого миелоидного новообразования [10; 11].
Пороговое значение количества эозинофилов - 1,5х109/л - является обсуждаемым, поскольку у некоторых пациентов может наблюдаться значительное поражение тканей и органов-мишеней при их меньшем количестве [7; 11].
Патогенетическиемеханизмы ГЭС. Воспалительный процесс с повреждением органов развивается в результате экскреции эозинофильными гранулоцитами цитотоксических соединений и энзимов: главного основного протеина, коллагеназы, нейротоксина, свободных кислородных радикалов, рибонуклеазы, эластазы, эозинофильного катионного белка, пероксидазы [1; 12]. Помимо перечисленного перечня медиаторов продукция лейкотриенов и простагландинов эозинофилами изменяет гладкомышечный тонус сосудов и бронхов, усугубляя патологический процесс. В свою очередь, секреция провоспалительных цитокинов способствует дисрегуляции иммунного ответа и ремоделированию тканей, в частности увеличению коллагенообразования под действием трансформирующего фактора роста-β [3].
Клиническая картина ГЭС. Выраженность симптомов варьируется и определяется инфильтрацией эозинофильными гранулоцитами органов-мишеней, чаще поражаются кожа, легкие, нервная система и сердце [3; 12; 13].
Наиболее распространенными являются неспецифические клинические признаки: слабость, повышенная утомляемость, кашель, одышка, мышечные боли, отек кожи и подкожно-жировой клетчатки, кожные высыпания, субфебрилитет, ринит [14].
Дерматологические проявления зарегистрированы у 69 % пациентов, за которыми по частоте следуют признаки легочных, неврологических и желудочно-кишечных поражений. Кожные проявления (40–70 %) распространены и неспецифичны, обычно состоят либо из ангиоэдематозных симптомов и элементов крапивницы, либо из эритематозных, зудящих папул и узелков, напоминающих экзему. Возможно появление язв на слизистых оболочках [15].
Нарушения неврологического статуса отмечаются в 5–20 % случаев и развиваются по типу либо диффузной энцефалопатии, либо периферической полинейропатии. При первом варианте наблюдаются изменения поведения и когнитивных функций, спутанность сознания, потеря памяти. При втором варианте беспокоят симметричные или асимметричные сенсорные изменения, двигательные расстройства [16; 17].
Поражение бронхолегочной системы при ГЭС определяется в 25-40 % случаев, проявления могут варьироваться от постоянного сухого кашля и/или гиперреактивности бронхов при отсутствии рентгенологических отклонений до рестриктивного поражения с легочными инфильтратами и фиброзом [3; 18]. В литературе имеются редкие описания клинических случаев с развитием острого респираторного дистресс-синдрома [3].
Поражения желудочно-кишечного тракта при ГЭС развиваются в 15–35 % случаев по типу эозинофильного гастрита, энтероколита или колита, проявляются болью в животе, тошнотой, рвотой, диареей. При тотальной инфильтрации эозинофилами стенок кишечника регистрируются признаки асцита [19].
Сердечно-сосудистые заболевания, не связанные с гипертонией, атеросклерозом или ревматической патологией, выявлены у 5–20 % пациентов с ГЭС (только у 6 % на момент первоначального обращения) [20]. Прогрессирующая сердечная недостаточность является прототипическим примером поражения органов, опосредованного эозинофилами. Она включает многоступенчатый патофизиологический процесс с эозинофильной инфильтрацией сердечной ткани и высвобождением цитотоксичных медиаторов. Повреждение эндокарда с образованием тромбоцитарного тромба может привести к появлению пристеночных тромбов и повышению риска эмболии. Фиброзное утолщение эндокардиальной оболочки на поздней стадии фиброза может перерасти в рестриктивную кардиомиопатию [21]. Клапанная недостаточность возникает в результате пристеночного эндокардиального тромбоза и фиброза, затрагивающего створки митрального или трехстворчатого клапанов [22; 23].
Диагностика ГЭС. При работе с больным гиперэозинофилией врач должен прежде всего ответить на два вопроса: 1) является ли гиперэозинофилия вторичным заболеванием по отношению к распространенному и поддающемуся лечению фоновому заболеванию, такому как паразитарные инфекции или побочные реакции на лекарственные препараты? 2) вызывает ли гиперэозинофилия сама по себе быстро прогрессирующее повреждение [24]?
В большинстве случаев ГЭС являются реактивными за счет гиперпродукции эозинофилопоэтических цитокинов (IL-3, IL-5, GM-CSF) и чаще связаны с атопическими, аллергическими состояниями, инфекциями, применением лекарственных средств, аутоиммунными и соединительнотканными заболеваниями или, реже, гематологическими или солидными опухолями, при которых эозинофилии являются доброкачественными (паранеопластическое увеличение). Требуется сбор подробного анамнеза и диагностическое обследование для исключения реактивного ГЭС [25].
Во всех случаях рекомендуются следующие исследования: общий анализ крови, мазок периферической крови на диспластические эозинофилы или бластные клетки, оценка уровня сывороточной триптазы (повышение – при системном мастоцитозе, иногда при других миелоидных заболеваниях), сывороточного витамина B12 (повышение - при миелоидных новообразованиях), иммуноглобулина E и сердечного тропонина, антинейтрофильных цитоплазматических и антинуклеарных антител, антител к циклическому цитруллини-рованному пептиду, С-реактивного протеина, ревматоидного фактора, натрийуретического пропептида, субпопуляционного состава лимфоцитов, компонентов (С) системы комплемента (C3, C4, ингибитора C1q), исследование на гельминтозы (антитела + исследование кала), фиброэзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, электро- и эхокардиограмма, тесты функции легких и компьютерная томография, цитогенетика костного мозга, молекулярно-генетические исследования генов слияния тирозинкиназы, гистологическое исследование (часто не дает окончательных результатов), анализ методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) для гена слияния FIP1L1::PDGFRA [26–28].
Эти исследования могут быть ценными для выявления и оценки тяжести поражения органов, опосредованного эозинофилами. Потенциальные осложнения, связанные с инфильтрацией тканей и органов, идентичны независимо от повышения эозинофилов по отношению к идентифицируемому заболеванию. Наиболее серьезными осложнениями гиперэозинофилии, требующими срочных мер по снижению уровня эозинофилов, являются повреждение миокарда, поражение легких с гипоксией и неврологическое поражение [3; 23].
При ГЭС лейкоцитоз (например, 20-30х109/л или выше) с периферической эозинофилией в диапазоне 30–70 % является обычным явлением [19]. В костном мозге могут быть выявлены кристаллы Шарко - Лейдена, содержащие эозинофильный белок галектин-10, иногда – повышенное количество бластов и фиброз костного мозга [15; 25; 26].
Лечение ГЭС. Кортикостероиды являются вариантом первой линии для пациентов с идиопатическим ГЭС [19]. Рекомендуемая дозировка для взрослых составляет от 40 мг/день до 1 мг/кг/день преднизолона перорально; в более тяжелых случаях следует использовать 1 г метилпреднизолона в день. У детей с ГЭС доза метилпреднизолона 2 мг/кг/день может использоваться в качестве лечения первой линии. Обычно наблюдается быстрое снижение эозинофилии крови, однако постепенное снижение дозы кортикостероидов обычно необходимо продлить на несколько месяцев (медианная поддерживающая доза 10 мг/день) [29].
Гидроксимочевина может использоваться в сочетании с кортикостероидами или в качестве монотерапии у неответчиков. Препарат эффективно контролирует количество лейкоцитов и эозинофилов, но нет достаточных доказательств влияния на течение ГЭС [30].
Вариантом второй линии для пациентов, которые не реагируют или не переносят кортикостероиды и гидроксимочевину, является интерферон-α (IFN-α). IFN-α может вызывать гематологическую или цитогенетическую ремиссию, а также обратимость повреждения органов. У пациентов с агрессивным заболеванием была предпринята попытка аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга / периферической крови с различными результатами [25]. Лей-коцитоферез может вызывать временное снижение высокого количества лейкоцитов и эозинофилов, но неэффективен в долгосрочной перспективе [25; 26]. Антиагрегантные и антикоагулянтные средства могут быть полезны для профилактики тромбоэмболии; однако стандартный подход, регулирующий их использование в качестве первичной профилактики у пациентов с ГЭС, в настоящее время отсутствует [14; 19].
Другие иммунодепрессанты, такие как циклоспорин , азатиоприн и метотрексат , могут использоваться у пациентов с ГЭС для контроля заболевания и в качестве стеро-идсберегающих препаратов [30].
Иматиниб является эффективным средством лечения пациентов с ГЭС, вызванным эозинофильным новообразованием с перестройкой PDGFRA/B [12]. Заболевания у пациентов с ГЭ и перестроенным клональным маркером FIP1L1-PDGFRA относятся к категории «миелоидные / лимфоидные новообразования с эозинофилией и слиянием генов тирозинкиназы» и, как правило, дают хороший ответ на терапию иматинибом [31–33].
Пемигатиниб как ингибитор Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) был недавно одобрен для лечения пациентов с миелоидными / лимфоидными новообразованиями с перестройкой FGFR1 [34]. Ингибитор JAK1/ JAK2 руксолитиниб в настоящее время изучается при ГЭС и первичных эозинофильных расстройствах [35]. Дазатиниб , противоон-кологический препарат, разработанный для блокирования функции BCR-ABL, недавно был изучен при нескольких миелопролиферативных заболеваниях, включая ГЭС1.
Хотя у большинства пациентов с ГЭС наблюдается высокая начальная скорость ответа на кортикостероиды, многие становятся рефрактерными или развивают побочные эффекты, связанные с длительным применением этих препаратов. Объяснением может служить наблюдающаяся у больных гиперцитокине-мия, при этом известно, что IL-5 играет ключевую роль в содействии дифференцировке, активации и выживанию эозинофилов [11]. Поэтому моноклональные антитела, нацеленные на этот иммуномедиатор, вызывают все больший интерес к лечению ГЭС. Среди них меполизумаб, который блокирует связывание IL-5 с α-цепью специфичного рецептора на эозинофилах и рекомендуется «в качестве дополнительного лечения для взрослых пациентов с недостаточно контролируемым гиперэозинофильным синдромом без идентифицируемой негематологической вторичной причины» в дозе 300 мг/4 недели [36–38].
Разработан ряд других препаратов гуманизированных моноклональных антител, эффективность которых при терапии ГЭС активно исследуется. Так, реслизумаб , соединяясь с циркулирующим IL-5, предотвращает его связывание с IL-5R на эозинофилах. Данные о его использовании у пациентов с ГЭС ограничены отдельными сообщениями о случаях и небольшим исследованием фазы 2 [39; 40].
Другие антитела против IL-5 ( депемоки-маб ) или рецептора IL-5 ( бенрализумаб ) также показали многообещающие результаты при клинических испытаниях. В настоящее время продолжается рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по изучению эффективности и безопасности депемокимаба у взрослых с неконтролируемым ГЭС. Цель состоит в уменьшении «вспышек» ухудшения клинических симптомов и увеличения количества эозинофилов с повышенной потребностью в системных кортикостероидах или других иммунодепрессантах. Опыт показал, что при ГЭС редко можно полностью прекратить прием кортикостероидов, и большинству пациентов требуется базовая терапия кортикостероидами в низких дозах для контроля активности заболевания, несмотря на добавление иммунодепрессантов и/или биологических препаратов2.
Бенрализумаб - гуманизированное моноклональное антитело, нацеленное на α-субъединицу IL-5R, продемонстрировал свою эффективность у пациентов с ГЭС, не поддающихся лечению и имеющих отрицательный PDGFRA, в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы 2 [41] и в отчетах об отдельных случаях [42–44].
Если диагностирован ГЭС, системныи подход на основе стероидов является обязательным для того, чтобы вызвать ремиссию острои фазы и/или предотвратить или ограничить необратимое повреждение органов в хроническои фазе, даже в случае поражения конкретных органов [30; 45]. Однако сочетание стероиднои терапии с более органно-ориентированнои терапией может быть полезным для поддержки определенных функции органов или устранения последствии их нарушения, связанных с их повреждением. Например, если возникает сердечная недостаточность, рекомендуется использовать традиционные стратегии, включая антигипертензивные препараты, диуретики, бета-блокаторы или другие в соответствии с текущим клиническим профилем [46; 47].
Обсуждение и заключение. Гиперэозинофильный синдром объединяет гетерогенную группу заболеваний с выраженной гиперэозинофилией и эозинофильной инфильтрацией тканей, чаще встречается у пациентов молодого и среднего возраста. Клинические симптомы имеют преимущественно неспецифический характер, выраженность их варьируется и определяется поражением органов-мишеней [3; 4; 13].
Диагностические критерии включают устойчивую гиперэозинофилию с повреждением / дисфункцией органов и исключение других миелоидных новообразований. Расширен список молекулярно-генетически определенных первичных эозинофилий, возникающих в результате изменения генов тирозинкиназы [10; 11].
Глюкокортикостероиды являются вариантом первои линии для пациентов с идиопатическим ГЭС [29]. Разработан ряд препаратов гуманизированных моноклональных антител, эффективность которых при терапии ГЭС активно исследуется [38–40]. Применение ГИБП направлено на преодоление рефрактер-ности, снижение нуждаемости в глюкокортикостероидах, профилактику лекарственных осложнении.