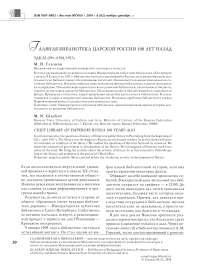Главная библиотека царской России 100 лет назад
Автор: Глазков Михаил Николаевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (62), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы истории Императорской публичной библиотеки в Петербурге с начала XX века и до 1917 г. Библиотека являлась крупнейшей в России, вела разнообразную деятельность по библиотечному обслуживанию читателей. Показывается влияние революции на состояние библиотеки. Изучены вопросы комплектования фондов библиотеки, влияние цензуры на их содержание. Показаны меры правительства по развитию библиотеки, увеличению ее бюджета, строительству новых корпусов библиотеки. Исследована работа библиотекарей по сохранности фонда. Приведена статистика, характеризующая масштабы деятельности библиотеки. В статье говорится о дарах и меценатской помощи библиотеке. Показаны проблемы библиотеки в период Первой мировой войны. Сделаны итоговые выводы по теме.
Императорская публичная библиотека, дореволюционный период истории, деятельность по развитию библиотеки
Короткий адрес: https://sciup.org/14489917
IDR: 14489917 | УДК: 02
Текст научной статьи Главная библиотека царской России 100 лет назад
если воспользоваться виртуальной «машиной времени» и вернуться в начало XX столетия, мы окажемся в отечественном обществе, насквозь пропитанном духом революции. именно революция воспринималась многими как главное условие реформирования и прогресса нашей страны.
разумеется, не могла остаться в стороне от общего «брожения умов» ведущая библиотека державы — императорская публичная библиотека в санкт-Петербурге. собственно, ее активно пытались втянуть в революционный процесс с первого же дня i революции — Кровавого воскресенья.
9 января 1905 года в библиотеке состоялся «стихийный митинг». он стал одним из ми- фов нашей библиотечной истории, поэтому кратко проясним некоторые факты.
обращает на себя внимание хронология событий. в воскресный день читальный зал библиотеки открылся по графику — в 12.00. до двух часов пополудни зал почти заполнился посетителями, большая часть которых являлась студентами. Причем, как заявляли впоследствии сотрудники библиотеки, многие посетители книг не заказывали, а просто сидели за столами, как будто чего-то ожидая.
в два часа дня на невском проспекте раздались первые выстрелы, что буквально сразу привело в движение публику в зале. через несколько минут (!) в библиотеке появился а. м. горький, тесно контактировавший с револю- глазКов михаил ниКолаевич — доктор педагогических наук, профессор кафедры
30 библиотековедения и книговедения московского государственного университета культуры и искусств, академик международной академии информатизации glAzKOv MiKhAil niKOlAeviCh — Full doctor of pedagogical Sciences, professor of department of library and Book Science, Moscow State University of Culture and Arts
ционными структурами. из столов и стульев для него была сооружена трибуна. речь горького свелась к призывам открыто бороться с самодержавием, немедленно выходить на улицы, чтобы присоединиться к демонстрантам. сейчас, когда можно считать полностью доказанным провокационный характер всего Кровавого воскресенья, митинг в императорской библиотеке четко выявляет однин из фрагментов в произошедших трагических событиях.
Прямым следствием провокаций было закрытие главной библиотеки страны «на неопределенный срок». тогдашний ее директор, член государственного совета д. Ф. Кобеко обратился к министру народного просвещения с просьбой закрыть библиотеку для читателей «впредь до успокоения происходящих в Петербурге волнений». здание библиотеки стало усиленно охраняться полицией [5, с. 125—126].
внутренняя привычная работа библиотеки оказалась парализована из-за «классовых конфликтов» внутри коллектива. на волне революционных событий в декабре 1905 года группа младших сотрудников, сторожей и технического персонала впервые в истории библиотеки составила петицию, которую подписали 46 лиц, требуя увеличить жалование, улучшить материальное и социальное положение. дирекция библиотеки вынуждена была уволить вольнотрудящегося а. н. антонова, студента военно-медицинской академии, ставшего зачинщиком конфликта. 17 декабря 1905 года антонов через газету «народное хозяйство» обратился с открытым письмом к д. Ф. Кобеко, в котором обвинял руководство в произволе и исполнении политического заказа. особенно гневно антонов обрушился на помощника (заместителя) директора библиотеки, крупнейшего отечественного ученого н. П. лихачева, называя его реакционером и черносотенцем. заметим, что спустя четверть века академик н. П. лихачев был арестован советскими органами огПУ по известному «делу Платонова» и репрессирован [4, с. 12—13].
раскол среди сотрудников императорской публички, дезорганизовывавший ее работу, охватил и руководящий состав. так, революцию поддержали заведующий отделением искусств и технологии, тайный советник в. в. стасов и заведующий отделением «росси-ка» а. и. браудо. можно предположить, что в планах антиправительственных структур императорской библиотеке отводилась, при оптимальном раскладе, роль некоего крупного информационно-пропагандистского центра, дестабилизирующего обстановку в столице страны. однако как показала жизнь, эти планы не были поддержаны многими библиотекарями.
но нормально работать в подобной обстановке было крайне тяжело. Прямым следствием революционных происшествий 1905 года стало прекращение присылки обязательного экземпляра в фонд императорской публички. дело в том, что согласно существовавшему государственному порядку обязательные библиотечные экземпляры всех выходивших в российской империи произведений печати сначала поступали в цензурные органы, а оттуда уже направлялись в основные библиотеки.
однако в 1905 году цензура оказалась, по сути, ликвидирована явочным порядком. соответственно, издатели перестали посылать бесплатные обязательные экземпляры из своих тиражей в государственные цензурные инстанции. следовательно, не поступали они и в императорскую публичную библиотеку.
в пик революции в октябре 1905 года библиотека не получила из обязательных экземпляров почти ничего. в первой трети 1906 года доставка новых поступлений носила крайне нерегулярный и неполный характер. По данным журнала «Книжный вестник», с октября 1905 года по апрель 1906 года главная библиотека страны не получила 85—90% всех вышедших в этот период изданий [5, с. 135]. для императорской библиотеки, выполнявшей функцию национального книгохранилища, такое положение было сродни катастрофе. Проблемы сохранения фонда переходили в совсем иную плоскость!
Показательно, что попытки обеспечить поступления книг и периодики в библиотеку в обход государственного порядка потерпели полный крах. так, библиотека академии наук, а также «румянцевка» обратились в конце 1905 года через крупнейшие газеты ко всем издателям и типографиям россии с призывом доставлять напрямую в библиотеки все, что вышло в свет, начиная с октября месяца. на специальном заседании союза книгоиздателей в Петербурге 27 ноября 1905 года была принята рекомендация «не признавая цензуры», регулярно посылать новые книги в адрес крупнейших библиотек страны в количестве 5 экземпляров [10].
в декабре 1905 года журнал «Книжный вестник» призвал всех русских издателей высылать каждое свое произведение в императорскую публичку, библиотеку академии наук и румянцевский музей. в воззвании отмечалось: «лишение книг ставит эти учреждения, составляющие неоцененное культурное достояние всего народа, в очень тяжелое положение и грозит нанести им непоправимый ущерб» [6].
но все эти «горячие пожелания», ничем не подкрепленные, не тронули суровые сердца представителей издательского бизнеса. в 1905—1907 годах по причине «нет в библиотеке» только русское отделение императорской публички отказало читателям в удовлетворении свыше 25 тыс. требований на современную литературу [5, c. 135].
лишь после постепенного восстановления порядка в государстве, властям удалось вывести присылку обязательных библиотечных экземпляров на удовлетворительный уровень. особо отметим специальное циркулярное отношение, принятое в 1906 году. главным управлением по делам печати было принято предписание «о порядке поступления обязательного экземпляра». согласно ему, все экземпляры, подлежащие передаче в общественные книгохранилища, должны были сосредоточиваться в главном управлении по делам печати, которое затем само направляло их в библиотеки. новый циркуляр отстранял местные цензурные комитеты и рядовых цензоров, далеко не всегда компетентных, от контроля за издававшимися сочинениями. Повышение роли центра способствовало большей стабильности и поступательности в обеспечении обязательными экземплярами ведущих библиотек россии.
из ряда нововведений в императорской публичке выделим «Правила для занятий в имп. Публичной библиотеке и для ее обозрения», принятые в конце 1907 года. По ним при записи в библиотеку от читателя теперь требовалось предъявление паспорта. напомним, что раньше он мог назвать любую фамилию и получить входной билет. Конечно, здесь присутствовала политическая и даже жандармская подоплека. с другой стороны, введение паспортной системы соответствовало давно принятой библиотечной практике ведущих демократий запада. новшество, несомненно, способствовало укреплению порядка в императорской публичке и повышению степени сохранности ее фонда. тем не менее, в тогдашней столичной прессе данная мера клеймилась как «полицейская» и «драконовская» [см., напр.: 8; 2].
введение паспортной системы при записи было оправдано также и в связи со значительным увеличением контингента читателей из самых разных сословий. если в 1896—1900 годах число крестьян и мещан, посещавших библиотеку, составляло немногим более 8 тыс., то в 1901—1905 годах оно выросло до 12,5 тыс., а в 1906—1910 годах — почти до 17 тыс. значительно увеличилась доля женщин: к 1906 году она составляла 30,7% от всех читателей библиотеки [5, с. 128—129].
стабильно возрастал контингент ученых, профессоров, инженеров и других специалистов, записанных в императорскую публичку. самой же крупной группой пользователей библиотеки оставались учащиеся, прежде всего студенты. в 1907 году их процент достиг 53, против 30—35% в конце XiX века. в 1910 году три четверти всех студентов, обучавшихся в Петербурге, были записаны в библиотеку. можно образно заметить, что она фактически являлась российской молодежной библиотекой.
всего же годовой ее контингент в 1913 году равнялся 28 тыс. человек, увеличившись с конца девятнадцатого столетия в несколько раз [1, с. 125]. При таком наплыве введение паспортной системы для записи в библиотеку представляется сугубо вынужденной мерой.
Подчеркнем, что более всего выросли самые проблемные группы читателей. если с представителями аристократии, дворянства и духовенства, с учеными, художниками, музыкантами библиотекари императорской публички могли проявлять известную доверительность, то в работе с крестьянами, мещанами, студентами и т.п. объективно требовался серьезный контроль и плотное «курирование». особенно это проявилось в годы i революции и в дальнейшем, когда в моду «фрондирующих» прослоек общества вошла некая развязность и пренебрежение к социальным нормам и установлениям.
отметим, что, исходя из предельно демократичных пунктов Устава, никаких ограничений в выдаче читательских билетов в библиотеке не существовало. в некоторых случаях от рядовых армейских чинов и учащихся средних учебных заведений (невыпускных классов) библиотекари просили представить разрешение их непосредственных начальников или учителей на посещения библиотеки. но при минимальной активности и желании эти «препятствия» легко можно было обойти. таким образом, с 1905 года и вплоть до Февральской буржуазной революции 1917 года императорским библиотекарям приходилось обслуживать крупный и очень сложный контингент лиц, активно пользовавшийся библиотечными услугами.
Какие же меры, помимо требования паспорта, стали применяться в главной Публичке в целях сбережения ее книжных сокровищ? в первую очередь, следует назвать увеличение штата сотрудников библиотеки. число библиотекарей, их помощников и «вольно-трудящихся», то есть работающих по договору, медленно, но стабильно увеличивалось с самого начала XX века. заметный рост штата произошел в 1911 году, благодаря решению правительства П. а. столыпина о росте госбюджетных ассигнований на императорскую библиотеку. По имеющимся данным, число профессиональных библиотекарей превысило 50 человек, а помогали им около сотни вольнотрудящихся [7].
с началом Первой мировой войны, по при- чине призыва в армию и в структуры, обеспечивавшие фронтовые нужды, штат библиотеки несколько уменьшился. но даже на третий военный год Публичка обладала достаточно мощным кадровым потенциалом. в 1916 года в ней работали 44 библиотекаря и около 60 вольнотрудящихся.
визуальный контроль за читателями, их формулярами и т.д., конечно, повысился. специальные мундиры императорских библиотекарей, по воспоминаниям посетителей, стали значительно чаще «мелькать» в залах и галереях библиотеки. однако при резком росте контингента читателей и объема использования литературы, одного визуального контроля было недостаточно.
следующей мерой «самозащиты» библиотеки стало ужесточение правил пользования библиотечной литературой непосредственно в отделениях — или, если говорить современными терминами, в специальных отраслевых отделах с профильным фондом. если в общих читальных залах никаких ограничений для записи посетителей не существовало, то работать в отделениях могли, в основном, специалисты, ученые, преподаватели, государственные чиновники, деятели искусства. Эти ограничения были зафиксированы в «Правилах для занятий в имп. публичной библиотеке…» 1907 года, а в правилах 1911 года оказались повторены.
естественно, данное обстоятельство тоже стало поводом для критики в либеральной прессе. но необходимо признать, что привилегированные группы читателей существовали тогда и существуют сейчас, в том числе в самых демократических странах. многолетняя библиотечная практика пришла к общепризнанному постулату об организации подобных спецзалов и отделов.
в них, как правило, собирается более ценная и редкая литература. здесь допускается большая свобода для читателей и доверительность к ним, оправдываемая их высоким статусом, репутацией, уровнем культуры. если снять ограничения на запись в данные залы, это неизбежно приведет к ухудшению обслуживания специалистов и повышению угрозы сохранности ценных фондов.
Как и в XiX веке, в императорской публичке в рассматриваемое время сохранялся порядок, по которому газеты выдавались читателям лишь по истечении года с момента выпуска. таким образом, библиотекари пытались предотвратить быстрое их обветшание. Кроме того, в связи с революционными событиями многие периодические издания сами приходили в библиотеку с большим опозданием. без задержки выдавались только газеты официальных государственных структур. имели право пользоваться свежей периодикой привилегированные читатели отделений библиотеки.
оценивая указанное правило, надо учитывать, что в начале XX столетия качество бумаги, на которой печатались массовые дешевые газеты, провинциальная пресса и т.п., было низким. При большом интересе к свежей периодике и огромном наплыве читателей, далеко не всегда аккуратных, императорская публичка рисковала остаться без целого ряда комплектов газет. для национальной библиотеки, выполнявшей функцию собирания и хранения всех документов, изданных в пределах империи на русском языке, это стало бы настоящей бедой. Поэтому руководство библиотеки сохранило ограничительные правила без изменений, несмотря на явное недовольство массовой публики.
надо, тем не менее, признать, что здесь существовал и политический аспект. столичная учащаяся молодежь в те годы находилась под сильнейшим влиянием революционных идей. если бы этому самому многочисленному и активному контингенту императорской публички было разрешено сразу читать оппозиционную и революционную прессу, наполненную резкой критикой властей и часто провокационными призывами, это могло привести к опасным социальным инцидентам. а последних и так хватало в 1905—1906 годах. доля же газет, более или менее оппозиционных, тогда имела уже абсолютное превосходство над немногочисленными действительно процаристскими печатными органами.
заботы императорской библиотеки о полноте и сохранности фонда национальной печати, так или иначе, привели к превращению ее в лучшее национальное книгохранилище мира. ни берлинская библиотека, ни Парижская национальная, ни даже библиотека британского музея не выдерживали конкуренции с ней в данном аспекте. в 1913 году ее фонд русской книги вырос до 931,7 тыс. томов [5, c. 138—139]. с момента последней инвентаризации (1878) рост составил более 660%.
всего же в 1913 году совокупный фонд императорской публичной библиотеки насчитывал 3016635 единиц хранения печатных изданий и рукописей [5]. огромный отечественный центр собирания, хранения и использования документов, по разным оценкам, являлся вторым-третьим по величине в мире, несмотря на все потоки критики, выливавшиеся в оппозиционных кругах как на императорскую библиотеку, так и на политику царского правительства по ее развитию. Причем, по мнению специалистов, по «качеству «и ценности фонда главная библиотека россии не имела аналогов за рубежом» [3].
для сбережения и лучшего использования бесценных печатных и рукописных сокровищ высшие власти продолжали регулярно осуществлять такое дорогостоящее и трудоемкое дело, как строительство новых помещений и корпусов библиотеки. в самом начале века — 7 сентября 1901 года в новом корпусе был открыт обширный читальный зал, вмещавший до 500 человек. для сравнения, в то время знаменитая ротонда британского музея располагала 458 местами, а главный читальный зал библиотеки конгресса сша мог одновременно вместить лишь 300 посетителей [5, с. 149]. насколько актуальной была потребность в увеличении читательских мест, видно из того, что в 1902 году в императорскую публичку записалось на 4 с лишним тысячи человек больше, чем в 1900 году.
в мае 1911 года государственный совет и государственная дума утвердили решение правительства П. а. столыпина об увеличении бюджета императорской библиотеки на 53 тыс. руб. (или более чем на 25%), доведя его почти до 250 тыс. руб. в год [9]. часть этой суммы, как мы уже отметили, пошла на расширение штата библиотекарей и вольнотру- дящихся, на санитарно-гигиенические мероприятия и т.д. новый бюджет предусматривал рост расходов по комплектованию фонда в пределах 60000 руб.
Помимо госбюджетных сумм библиотека получала обширную меценатскую помощь, в том числе от императорской фамилии. августейшие лица давно взяли под свой патронат императорскую публичку, регулярно финансировали ее из собственных средств. Эти поступления по своей стабильности можно приравнять к бюджетным ассигнованиям. их точная величина в настоящее время не выяснена, но речь идет о десятках тысяч рублей. вообще, тщательное исследование архивов министерства двора его императорского величества может открыть нам множество удивительных фактов.
Помимо царской семьи пожертвования в пользу библиотеки вносили представители всех слоев и сословий государства, нередко анонимно. Крупным источником пополнения фонда оставались книжные дары. с 1901 по 1917 год в дар императорской публичке было принесено 191,5 тыс. названий книг и иных печатных изданий (не считая рукописей и личных архивов) [5, с. 137].
тяжелым испытанием для библиотеки стала Первая мировая война. Помимо мобилизации части библиотекарей, естественного сокращения ресурсных возможностей и т.п., в 1915 году возникла угроза библиотечному фонду в связи с неудачами русской армии на северо-западном направлении и вероятным прорывом германских войск на Петроград. в середине 1915 года правительство дало распоряжение о подготовке наиболее ценных собраний фонда императорской публички к эвакуации в Казань. в августе 1915 года на основании секретного распоряжения министра просвещения было даже закрыто отделение рукописей под предлогом «капитального ремонта». рукописи стали укладывать в специальные эвакуационные ящики.
но выравнивание линии фронта сняло проблему военной угрозы культурным ценностям северной столицы. императорская библиотека остановила работу по эвакуации, плановое обслуживание читателей продолжилось вплоть до революционных событий Февраля 1917 года.
Подводя итоги деятельности главной библиотеки россии рассматриваемого времени, невольно приходишь к мысли о преимуществах эволюционного пути развития над революционным. При всех сложностях, недостатках, проблемах библиотека поступательно совершенствовалась, превратившись в мирового флагмана библиотечного дела. не умоляя статус и заслуги современной российской национальной библиотеки, можно только предполагать, каким удивительным самобытным творческим феноменом явилась бы отечеству и миру императорская публичная библиотека, не будь в нашей истории смутного времени…