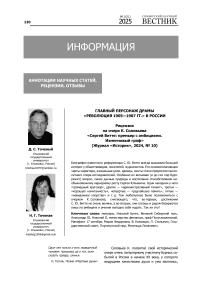Главный персонаж драмы «Революция 1905—1907 гг.» в России: рецензия на очерк К. Соловьева «Сергей Витте: премьер с амбициями. Изменчивый граф» (журнал «Историк», 2024, № 10)
Автор: Точеный Д.С., Точеная Н.Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Аннотации научных статей, рецензии, отзывы
Статья в выпуске: 1 (51), 2025 года.
Бесплатный доступ
Биография известного реформатора С. Ю. Витте всегда вызывала большой интерес у обществоведов, писателей, журналистов. Его основополагающие черты характера, жизненные цели, идеалы, мечты стали предметом многолетнего спора исследователей. Особенно их волновал (и до сих пор будоражит) вопрос, какие данные природы и воспитания способствовали необыкновенному карьерному росту Сергея Юльевича. Одни находили у него «громадный кругозор», другие — «административный талант», третьи — «хорошую начитанность», четвертые — «редчайшую память», пятые — «невиданное упорство» и т. д. Тем любопытнее было познакомиться с очерком К. Соловьева, считающего, что, во-первых, достижения С. Ю. Витте не очень велики, а во-вторых, они сплошь и рядом базируются лишь на амбициях и умении выгодно себя подать. Так ли это?
Мемуары, Николай Бунге, Великий Сибирский путь, Александр III, Николай II, министерство финансов, граф Полусахалинский, Манифест 17 октября, Мария Федоровна, В. Коковцов, П. Столыпин, Государственный совет, Портсмутский мир, Матильда Лисаневич
Короткий адрес: https://sciup.org/14132897
IDR: 14132897
Текст научной статьи Главный персонаж драмы «Революция 1905—1907 гг.» в России: рецензия на очерк К. Соловьева «Сергей Витте: премьер с амбициями. Изменчивый граф» (журнал «Историк», 2024, № 10)
Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья.
Н. Гоголь. Поэма «Мертвые души»
Соловьев К. посвятил свой исторический очерк очень популярному участнику бурных событий в России в начале ХХ века, у которого ведущими качествами души и ума являлись, заглянем в толковый «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, «обостренное самолюбие, спесивость, чванство, непостоянство» [13, с. 23, 209]. Сразу становится понятно, что автор рецензируемой работы не склонен петь дифирамбы С. Ю. Витте, что он настроен к нему критично и, пожалуй, с долей презрительной иронии: «Граф был человеком, который память о себе выстраивал сам. Он всегда внимательно следил за выходившими о нем статьями, зачастую их редактировал и даже сам о себе писал — анонимно или под псевдонимом, разумеется. Его чрезвычайно волновало собственное реноме» (с. 52).
С той же целью прославить себя Сергей Юльевич написал («сочинил», как подчеркивает К. Соловьев) свои «Воспоминания»: «Многие оценки современников Витте, да и его самого мы волей-неволей черпаем оттуда. Однако можно ли этому верить? Встречаются мемуары, авторы которых пытаются быть немного объективными, соблюсти баланс между тем, что было, и тем, что хочется сказать. Мемуары Витте — не тот случай. Их очень сложно использовать в научных исследованиях. Любое свидетельство Витте надо проверять… Они хорошо характеризуют самого автора — то, что он хотел сказать, и то, что старался скрыть» (с. 59). В оценке мемуаров Сергея Юльевича К. Соловьев, несомненно, переборщил, аттестовав его как мелкого жулика, за которым надо тщательно следить. Вот что сказал на этот счет И. В. Гессен, один из лидеров кадетской партии, известный российский юрист: «Воспоминания графа Витте доведены непосредственно до всемирной войны, завершившейся для нас революцией, которая своего последнего слова еще далеко не сказала. Ясно поэтому, что они содержат богатейший материал для уяснения причин катастрофического хода событий, для ответа на многие тревожные и мучительные вопросы современности» [4, с. 41]. С ним полностью согласна И. В. Пот-кина, автор статьи о С. Ю. Витте в энциклопедии «История России с древнейших времен до 1917 года». Она убеждена в том, что неоспоримой заслугой первого председателя Совета министров нашего государства является подготовка им воспоминаний, «содержащих большой фактический материал и являющихся одним из ярчайших памятников отечественной мемуаристики» [17, с. 400].
Очевидно, что к оценке памятных записок Сергея Юльевича К. Соловьев подошел предвзято, не проявляя должной объективности. К сожалению, и анализ всех других деяний своего «героя» он построил на основании незамысловатой литературной схемы: мёда кладем одну ложку, а дегтя черпаем заметно больше. Может быть, по этой причине так разнятся взгляды К. Соловьева и других исследователей на финансовые реформы, проведенные Сергеем Юльевичем в конце ХIХ — начале ХХ века. «Витте, — размышляет автор рецензируемого очерка, — внес немалую лепту в экономическое развитие страны. Не случайно его имя ассоциируется с тем поразительным взлетом, который пережила российская экономика в 1890-е годы. Хотя я бы не сказал, что это результат исключительно его усилий. Предшественниками Витте был создан большой задел. Несмотря на то, что политика министров Николая Бунге и Ивана Вышнеградского заметно отличалась от того, что делал Витте, он не пренебрегал результатами их работы — идеями и накопленными капиталами. Да и мысль о введении золотого рубля возникла отнюдь не в голове Витте. Он ею воспользовался, как и той общей позитивной динамикой, которая наблюдалась в мировой экономике в конце ХIХ века. У него, пусть не сразу, сложилась концепция экономического роста. На его достижение была направлена финансовая реформа. Впрочем, после революции 1905—1907 гг. у российской элиты Витте стал ассоциироваться не с экономикой, а с политикой» (с. 52—53). Нам показалось, что К. Соловьев охарактеризовал экономический курс Сергея Юльевича несколько туманно, не рассказал о личном вкладе этого реформатора, хотя эта тема была и остается предметом постоянного внимания и политических деятелей, и исследователей.
В 1915 году, ставшем последним в жизни Сергея Юльевича, едва ли не все ведущие российские органы печати отметили, что самыми важными преобразованиями в России в начале ХХ века явились финансовые реформы Витте. Так, «Русские ведомости» подчеркнули, что наиболее ярким достижением первого председателя Совета министров явилось введение золотого стандарта рубля. «Установление его, — писал управляющий Азовско-Донским банком И. К. Коган на страницах «Голоса
Москвы», — это постоянный исторический памятник графа Витте как государственного деятеля». Исключение составили только черносотенные издания. «Земщина» назвала денежную реформу злом, так как «золотая валюта поставила Россию в зависимость от иудеев. «Русское знамя» оценило золотой стандарт также негативно» [19, c. 22].
Место и роль Сергея Юльевича в длительном процессе решения о переходе к золотому монометаллизму удачно раскрыли Б. В. Ана-ньич и Р. Ш. Ганелин: «Витте не был посвящен Вышнеградским в тайны подготовлявшейся уже много лет денежной реформы и едва не начал свою деятельность во главе министерства инфляционной кампанией специальным выпуском “сибирских” бумажных рублей для покрытия расходов на постройку Великого Сибирского пути. Однако именно Витте в 1894— 1895 гг. добился стабилизации рубля, а в 1897 году сделал то, что не удавалось его предшественникам, — ввел золотое обращение, обеспечив стране твердую валюту вплоть до Первой мировой войны и приток иностранных капиталов» [1, с. 37].
Заслуги Сергея Юльевича Витте — успешного менеджера экономической системы России в 90-х годах ХIХ века — оценили по достоинству авторы только что вышедшего вузовского учебника по истории: «В области денежного обращения правительство провело ряд мероприятий, направленных на укрепление рубля. Особенное значение имела денежная реформа С. Ю. Витте 1897 года, приведшая рубль к золотому эквиваленту. Российские деньги высоко котировались на мировом финансовом рынке» [15, с. 389].
Слава Сергея Юльевича росла, стремительное продвижение по служебной лестнице изумляло.
Однако К. Соловьев внушает читателям, что своей карьерой Витте обязан другим факторам: «Например, он не был чужим для графа Иллариона Воронцова-Дашкова и семейства Шуваловых». Нам представляется, что судьбу Сергея Юльевича решила не протекция солидных родственников, а недюжинные собственные способности администратора, хозяйственника и исследователя, на что обратил внимание Александр III.
Наилучшую характеристику С. Ю. Витте (применительно к 80—90-м годам ХIХ века) мы найдем в воспоминаниях А. Ф. Кони, выдающегося судебного следователя, ученого-юриста и талантливого писателя: «Моя служебная деятельность дала мне возможность и случай неоднократных встреч с Витте и даже совместной работы. Я встретился с ним впервые в комиссии, учрежденной в 1876 году для исследования железнодорожного дела в России. В нее под председательством Э. Т. Баранова (председателя департамента экономики в Государственном совете) были назначены представители различных ведомств, а также привлечены практические деятели, занимавшиеся изучением положения железнодорожного дела. Между ними видное место занимали С. Ю. Витте, военный инженер фон Вендрих… Пожелания, высказанные Витте в Барановской комиссии об упорядочении тарифного дела, нашли себе подробное выражение в ряде его статей в журнале «Инженер» и изданной им в 1883 году книге «Принципы железнодорожных тарифов», представляющей обширный труд по истории тарифного дела в его экономическом значении — и о правильной постановке этого дела.
В этой замечательной во всех отношениях книге, намечающей позднейшую деятельность автора, есть целая глава, трактующая о реалистической и классической школах политической экономии, о свободе экономических отношений и государственном вмешательстве — и о научном, государственном и христианском социализме. Можно не соглашаться с некоторыми из его оригинальных взглядов, но нельзя не отдать полной справедливости богатству и разнообразию обнаруженных им знаний в области государственной и общественной жизни, в особенности имея в виду, что этот труд принадлежит не ученому исследователю, а поглощенному практическою деятельностью начальнику движения железной дороги» [10, с. 242—243].
Видно, что А. Ф. Кони была симпатична система политико-государственных настроений С. Ю. Витте. А какие мировоззренческие дефиниции слышатся в отношении того же персонажа из уст К. Соловьева? «Четкие и ясные идеологические определения, — считает он, — в отношении Витте неуместны. Нельзя сказать, кем он был — реакционером, консерватором или либералом. Прежде всего Витте был прагматиком. И это главное! После назна- чения министром он стал царедворцем. А это значит, всегда имел в виду то, что желал услышать император. Знал, на чем можно настаивать в данный момент, а на чем не следует. Взгляды Витте при разных обстоятельствах менялись» (с. 53).
Любопытно, как бы могли продолжить разговор на эту тему известные политические деятели, не раз общавшиеся с Сергеем Юльевичем в начале ХХ века. «Что касается меня, — сказал бы министр иностранных дел России в 1906—1910 гг. А. П. Извольский, — то я никогда не находился под очарованием властной личности графа Витте и, с другой стороны, не испытывал к нему того чувства недоброжелательности, которое он вызывал у многих своих современников, особенно у императора Николая II. Я чувствую, что могу дать его описание с полной объективностью…
Когда он был призван в Петербург Александром III в качестве эксперта по железнодорожному делу, столь важному в то время для России, он легко выделился на фоне бюрократической рутины столицы благодаря своим всесторонним знаниям в этой области. В Петербурге его кипучая деятельность скоро вышла за рамки этой специальности, и он сделался авторитетом не только по железнодорожному делу, но и по вопросам экономической жизни страны. Его восхождение по ступеням чиновничьей лестницы было весьма быстро, и всего через несколько лет после прибытия в Петербург он уже встал во главе Министерства финансов — пост не только важный сам по себе, но которому он придал особое значение...
Как только граф Витте сделался министром финансов, он сейчас же обнаружил явную склонность доминировать над другими членами кабинета и стал de facto, если не de jure, действительным главой русского правительства. Осуществления этой цели он достигал не только благодаря своей властной натуре и непререкаемому превосходству над коллегами, но также и тем, что, будучи министром финансов, поставил все министерства в зависимость от себя, так как Александр III совершенно доверял ему, отказывая в санкции кредита без согласия графа Витте… В течение 10 лет он был действительным господином 160-миллионного населения империи» [7, с. 76—78].
А теперь на минутку вообразим лидера партии кадетов П. Н. Милюкова, который при чтении очерка К. Соловьева задумался над взаимоотношениями Сергея Юльевича c царским двором: «Витте дарил сановную среду только скрытым презрением, а она отвечала ему вынужденной вежливостью в дни его фавора и скрытой враждой. При Александре III этот фавор закреплялся самыми этими особенностями Витте. Грубоватый тон и угловатая речь импонировали императору и отвечали его несложной психике. Упрощенные объяснения Витте были ему доступны, настойчивость — убедительна, а оригинальность и смелость финансово-экономической политики оправдывалась явным успехом. При Николае II — особенно благодаря его жене — все это переменилось. Безволие царя и злая воля царицы сталкивались с волевым характером и решимостью к действиям Витте» [11, с. 321—322].
Милюков П. Н. еще раз прочитал строки К. Соловьева, в которых тот раз за разом упрекал Сергея Юльевича в отсутствии твердости взглядов, в увлечении конъектурными проблемами и задачами и с досадой дописал: «Да, граф Витте — ненадежный посредник, ненадежный на обе стороны, потому что ни одна сторона ему не верит. А есть кто-нибудь в запасе более надежный? Да, у графа Витте язык слишком гибок, ум слишком широк и симпатии слишком часто меняются, а есть кто-нибудь другой, кто бы говорил на языке, понятном всем? Мы таких не знаем» [19, с. 85].
К сожалению, при чтении очерка К. Соловьева, в целом достойного внимания, мы стали ловить себя на огорчительной мысли — не теряет ли его автор позицию объективного аналитика, а все чаще смотрит на С. Ю. Витте с плохо скрытой неприязнью? Однако, к нашему искреннему удовлетворению, очередной сюжет, повествующий об участии Сергея Юльевича в заключении в 1905 году мирного договора с Японией, посеял у нас надежды на лучшее.
Соловьев К. очень непредубежденно нарисовал читателям реалистическую картину драматических событий в Портсмуте: «С уверенностью можно сказать, что Витте умело работал с общественным мнением и в России, и в Соединенных Штатах. Он пленил американских журналистов своей на тот момент открытостью, отвечал на самые неудобные вопросы.
В результате в США стали сочувствовать Витте, а значит, и России. Из Портсмута он вернулся триумфатором и был возведен императором в графское достоинство. Немногочисленные злопыхатели назвали Витте “графом Полу-Сахалинским”, но в условиях нараставшей революции это не имело большого значения… мир надо было подписывать. Витте это сделал, обернув ситуацию в свою пользу» (с. 56).
Да, в портсмутском этапе своей биографии Сергей Юльевич, по мнению некоторых историков и нашему тоже, просто превзошел самого себя: «Переговоры, — пишет, например, А. Н. Боханов, — были сложными и несколько раз оказывались на грани срыва. В удачном их исходе большая заслуга Сергея Юльевича Витте. В течение нескольких недель этот человек великолепно проявил свои способности государственного деятеля, раскрыл незаурядный дипломатический талант. Ему приходилось настойчиво и последовательно уламывать японцев, льстя, запугивая, угрожая и одновременно соблазняя их перспективой установления прочных добрососедских отношений» [2, с. 342]. А уж прибытие его на перрон вокзала в Портсмуте можно назвать, заметил А. В. Игнатьев, шедевром искусства пиара: «Разыгрывая роль демократа, он по окончании поездки пожал руки паровозным служащим, а машиниста обнял и поцеловал» [6, с. 221]. Итоги большой дипломатической эпопеи удачно подвел русский дореволюционный историк Л. Слонимский: «Когда в июне 1905 года предстоял выбор уполномоченного для ведения мирных переговоров с Японией, то общественное мнение выдвинуло кандидатуру Витте как самого авторитетного и выдающегося из официальных деятелей того времени… Подписание портсмутского договора 23 августа 1905 года доставило Витте всемирную славу» [18, с. 328].
Отрадно, что К. Соловьев, как и большинство историков, положительно отозвался о деятельности Сергея Юльевича Витте в период Русско-японской войны. Но что сделалось далее с автором очерка, понять мудрено. Он дважды (сначала обычными, а второй раз аршинными буквами) повторил свой сердитый, недоброхотный вывод-вердикт: «Витте так и не стал в полном смысле слова государственным и тем более политическим деятелем. Он оставался одиночкой, который никого не пред- ставлял. Это было его главным уязвимым местом» (с. 57, 58). Вот тебе раз! И как теперь всем составителям словарей прикажете именовать Сергея Юльевича (главным буржуином, господином, гражданином, товарищем или, на худой конец, тамбовским волком)?
Соловьев К., конечно, прав, заявляя, что за спиной Витте не стояли никакие политические партии, но это не означает, что он был одиночкой, что он не пользовался авторитетом среди представителей различных классовых сил. А кто инициировал и активное участвовал в принятии документа, который, как рычаг, перевернул огромную страну? «При всех разногласиях между историками и правоведами относительно оценки Манифеста 17 октября, — верно заключают Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин, — именно с этим актом традиционно связывается переход от самодержавной формы правления в России к конституционной монархии, а также либерализации политического режима и всего уклада жизни страны. К заслугам Витте перед старой Россией, выразившимся в экономических преобразованиях и только что заключенном мире с Японией, добавился теперь и Манифест 17 октября, вызвавший надежды на политическое обновление государства и общества» [1, с. 47].
Соловьев К. убеждает нас, что Витте — это жалкий одиночка. Но кто и как сумел убедить императора подписать Манифест 17 октября? И сам же автор рассматриваемого очерка признает, что это сделали люди, захваченные идеями Сергея Юльевича: «В том, что нужна радикальная политическая реформа, тогда не сомневался не только Витте, но и Горемыкин, и министр императорского двора граф Владимир Фредерикс, и товарищ министра внутренних дел, генерал-губернатор Санкт-Петербурга Дмитрий Трепов, который обычно ассоциируется с его более поздним приказом войскам «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». В необходимости перемен не был лишь убежден Николай II. Он цеплялся за тот режим, к которому привык и который ассоциировался с Александром III... В октябре 1905 года сложилась ситуация, когда Николай оказался в одиночестве. Против него выступали все!» (с. 56). К. Соловьев мог вспомнить и о том, что Манифест 17 октября поддержал двухметровый гигант, родственник царя, великий князь Николай Николаевич. Какую мело- драматическую сцену он закатил в присутствии царя! «Если государь не согласится с программой Витте, — громогласно заявил этот «богатырь», — я убью себя из этого револьвера. Мы должны поддержать Витте любой ценой. Это необходимо для блага России». Даже вдовствующая императрица Мария Федоровна нашла необходимым посоветовать сыну: «Я уверена, что единственный человек, который может помочь тебе сейчас, — это Витте. Он, несомненно, гениальный человек» [12, с. 100].
Реакцию населения на документ, написанный С. Ю. Витте и подписанный Николаем II, правдиво отразил советский историк Е. Д. Черменский: «Опубликование манифеста было встречено с ликованием либеральной буржуазией, которая надеялась, что отныне массовое движение войдет в мирное русло парламентской борьбы. У части рабочих и демократической интеллигенции манифест вызвал конституционные иллюзии… После получения известий о Манифесте улицы городов заполнились народом, появились красные знамена, образовались шествия с пением «Марсельезы» [20, с. 306].
Витте, овеянный едва ли не легендарной славой Портсмута и «Манифеста 17 октября», получил титул и должность, которые, по мнению К. Соловьева, он ничем не заслужил. А потому автор очерка решил, что теперь наступила пора показать истинное лицо «амбициозного премьера» и «изменчивого графа». Проведенное им тщательное расследование выявило, что за благообразной физиономией Сергея Юльевича таилось, говоря словами поэта В. Маяковского, настоящее «нутро мещанина».
Во-первых, К. Соловьеву удалось, наконец, засвидетельствовать, что все разговоры о колоссальной работоспособности Витте — это сказки про белого бычка: «Будучи министром финансов… работал он много, но нельзя сказать, что сильно себя утруждал. Витте вообще по духу был скорее сибаритом. Часть полномочий он перепоручил заместителям. В их числе были такие неординарные люди, как Владимир Ковалевский и Владимир Коковцов. Он им доверял и никогда не проверял. В итоге им удалось добиться высокой эффективности в управлении Министерством финансов» (с. 57).
Во-вторых, К. Соловьев обнаружил, что С. Ю. Витте, по природе лентяй и мошенник, успешно эксплуатирующий в Министерстве финансов своих талантливых заместителей, оказался совершенно беспомощным в должности председателя Совета министров: «По воспоминаниям сотрудников, он находился в поникшем, упадочном состоянии. Не выдерживал давления обстоятельств. Он привык, что отвечает за свое министерство и может иногда вмешиваться в интересы других ведомств. Возглавив правительство, он должен нести ответственность за все. Пост премьера требовал больших сил. Постоянно приходилось принимать разных людей…
Обязанностей у Витте стало гораздо больше, в критических обстоятельствах многое приходилось делать самому, достичь договоренностей почти ни с кем не получалось. У Витте не сложились отношения с министром внутренних дел Петром Дурново, который непосредственно контактировал с царем. Дурново поддерживал его родственник, министр юстиции Михаил Акимов. Министерства иностранных дел, военное и морское вообще не подчинялись Витте, с ними приходилось вести переговоры» (с. 57). К. Соловьев подготовил обстоятельную справку, которая «неопровержимо» доказывала, что председатель Совета министров С. Ю. Витте халатно относился к своим обязанностям. Тем не менее нельзя забывать, что историк должен неукоснительно исполнять не только функции общественного обвинителя, но и защитника.
Дадим слово группе авторов книги «История России в портретах»: «В критические дни революции Сергей Юльевич стал главой правительства России. На этом посту Витте продемонстрировал удивительную гибкость и способность к лавированию, выступая в чрезвычайных условиях революции то твердым, безжалостным охранителем, то искусным миротворцем. Под председательством Витте правительство занималось самыми разнообразными вопросами: переустраивало крестьянское землевладение, вводило исключительное положение в различных регионах, прибегало к применению военно-полевых судов, смертной казни и других репрессий, вело подготовку к созыву Думы, составляло Проект Основных законов, реализовывало провозглашённые 17 октября свободы. Однако возглавляемый С. Ю. Витте Совет министров так и не стал европейским кабинетом» [8, с. 303].
Кто ему помешал?
Ольденбург С. С. в своей монографии, посвященной Первой русской революции, подчеркнул, что Витте фактически руководил Советом министров только два месяца (до декабря 1905 года), а затем его снова возглавил Николай II. Как говорится, с него и спрос [14, с. 311]. Дальше события развивались, как справедливо отмечает известный историк К. Ф. Шацилло, в соответствии с чертами характера, заложенными в мозгу последнего императора, — «бездарностью, фатализмом и элементарной политической глупостью» [16, с. 28].
Николай II привел страну к катастрофе. Никаких положительных качеств не проявил, кроме большой любви к семье. И тем не менее К. Соловьев обнаружил у Сергея Юльевича кучу недостатков, сумев искусно закамуфлировать все дурные черты у императора. Например, известно, что царская чета не выразила никакого сочувствия жене Витте в связи со смертью ее мужа. И вот как глубокомысленно прокомментировал этот гадкий поступок автор рецензируемой работы: «На самом деле Николай II был человеком в известной мере загадочным… Порой его решения выскакивали как чертик из табакерки. Петр Столыпин говорил о нем как о сфинксе» (с. 58).
Свой очерк об «амбициозном премьере», пренеприятном во всех отношениях, К. Соловьев решил завершить желанным для себя хеппи-эндом — навеки посрамить этого лицемера и ханжу. На суд читателей он представил для сравнения политические портреты Петра Столыпина и Сергея Витте.
Эпически спокойно, аристократически объективно звучат первые фразы, повествующие о Петре Аркадьевиче и Сергее Юльевиче: «Полностью противопоставлять эти фигуры друг другу нельзя. Не стоит говорить, что один был прогрессивным деятелем, а другой — реакционером. И тот и другой — масштабные личности с необычной судьбой. Оба кончили физико-математический факультет, который не давал больших карьерных перспектив. Недаром большинство молодых людей стремились на юридический факультет. Оба были открыты для общения с прессой и считали это важным» (с. 59).
А ниже в тексте рассказа К. Соловьева о двух реформаторах следует каскад восхвале- ний одного из них и разоблачений подноготной другого: «Если говорить об отличиях, то, во-первых, Столыпин большую часть биографии считал себя общественным деятелем: он был сначала уездным, а потом губернским предводителем дворянства. Витте же долгое время занимал чиновничьи посты. Во-вторых, если Столыпин ассоциируется с определенным курсом, который он проводил, то о Витте этого нельзя сказать, что у него было свое мнение. Он решал хоть и важные, но отдельные задачи. Сложно представить Витте выступающим в Государственной Думе с правительственной декларацией. Столыпин с этим блестяще справлялся. Во главе правительства он был политиком. Про Витте этого не скажешь. Оказавшись в Государственном Совете, он вел себя как отставной чиновник, не говорил о перспективах на будущее, не строил планов» (с. 55).
Для того чтобы оттенить не совсем симпатичные черты характера и поведения Сергея Юльевича, К. Соловьев приукрасил облик Петра Аркадьевича. Попробуем восстановить истину. Вот какое мнение сложилось о заключительном этапе жизненного пути последнего российского реформатора у его биографа П. С. Кабытова: «Здравомыслящий и властный Столыпин, способный принимать масштабные решения, по мнению Николая II и его окружения, стал отодвигать помазанника божьего на второй план… Умиротворение страны и введение реформ вызвало невиданный огонь критики их архитектора Столыпина и слева, и справа. Возврату популярности Столыпина не могли помочь ни режим гласности о деятельности правительства, ни агитационно-пропагандистские поездки по России, ни экзотический полет на аэроплане. Узость социальной базы в конечном счете привела его к изоляции, а затем к трагической гибели» [9, с. 176].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТОВ
Определить роль и значимость С. Ю. Витте для судеб Российской империи, кажется, не так уж трудно: надо его жизненный путь и итоги деятельности сравнить с соответствующими данными тех, кто стоял рядом с ним и вершил будущее нашего государства. Для этого возьмем популярный энциклопедический словарь «Отечество», составленный А. П. Горкиным и В. М. Каревым. Он поможет нам быстро найти того реформатора, который принес наибольшую пользу населению России в начале ХХ века.
-
С. Ю. Витте
«Инициатор введения винной монополии (1894), проведения денежной реформы (1897), укрепившей внутренний и внешний курс рубля, строительство Транссибирской железной дороги. Предложения Витте о свободном выходе крестьян из общины и ликвидации крестьянской сословной обособленности были использованы в ходе осуществления аграрной реформы П. А. Столыпина. Стремился привлечь предпринимателей к сотрудничеству с правительством. В начале 1900-х гг. выступал против обострения отношений с Японией; одновременно стремился к сближению с Китаем. От имени России подписал Портсмутский мир с Японией (1905), завершивший Русско-японскую войну. Под руководством Витте составлен высочайший Манифест 17 октября 1905 года о даровании основных гражданских свобод. Написал мемуары (т. 1—3, 1960)»
[5, с. 114—115].
Николай II
«Расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге привел к началу революции 1905—1907 гг., в ходе которой Николай II был вынужден издать Манифест от 17 октября 1905 года о “даровании” политических свобод и создании парламента (Государственная дума и Государственный совет). С 1906 года по инициативе председателя Совета министров П. А. Столыпина проводилась аграрная и другие реформы» [5, с. 407].
П. А. Столыпин
«Начал проведение аграрной реформы, рассчитанной на создание крепких индивидуальных крестьянских хозяйств. Под руководством Столыпина разработан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, о веротерпимости» [5, с. 590].
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ И ИСТОРИКИ О С. Ю. ВИТТЕ
«Трудная задача — дать характеристику великого государственного деятеля графа
Витте… Бывший французский посол в Петербурге Бомпар признает, что он был администратором большой интеллектуальной силы, финансистом с широким кругозором и выдающимся государственным деятелем. Мне кажется, что это суждение не дает должного гениальности графа Витте. Без колебания употребляю я слово «гениальность», потому что граф Витте в известную пору своей деятельности проявил нечто большее, чем простой талант… Министр, который имеет на своем счету успешное выполнение трех задач — монетной реформы, Портсмутского договора и конституционной хартии 1905 года — заслуживает быть поставленным в одном ряду с величайшими государственными деятелями не только России, но и всего мира…
Манифест 17 октября, несмотря на запоздание, в котором повинен император Николай II, несомненно, отсрочил гибель российской монархии на двенадцать лет, пока она снова не покинула пути, намеченного графом Витте, чем подписала себе смертный приговор» [7, с. 80].
А. П. Извольский
«Но прежде всего, мы должны познакомиться с фигурой Витте — господствующей фигурой момента. Я буду говорить о ней, как я сам понимаю этого крупного деятеля. Это был редкий русский самородок — со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей этой правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось пробивать свой собственный путь к действию. А действовать — это была главная потребность его натуры. Как всякий самородок, Витте был энциклопедистом. Он мог браться за все, учась попутно на деле и презирая книжную выправку. С своим большим здравым смыслом он сразу отделял главное от второстепенного и шел прямо к цели, которую поставил.
Он умел брать с собой все нужное, что попадалось по дороге, и отбрасывать все ему ненужное: людей, знания, чужие советы, закулисные интриги, коварство друзей, завистников и противников. Он прекрасно умел распознавать людей, нужных для данной минуты, организовать их труд, заставлять их работать для себя, для своей цели. Большое уменье во всем этом было необходимо, потому что и дела, за которые он брался, были большого масштаба…» [11, с. 321].
П. Н. Милюков
«Новый академик Тарле прислал мне свою свежую книжку о Витте. Он рассматривает с другой плоскости, чем в моей книжке о Витте в 1924 году, но оба сходимся во взглядах на то, что этот огромный государственный человек, гениальный в своем творчестве, был во всем, что касается личной жизни и властолюбия, — ничтожным человеком» [10, с. 456].
А. Ф. Кони
«Витте был резким, целеустремленным, амбициозным, готовым преодолевать неблагоприятные обстоятельства.
Один из ближайших сподвижников нового министра позднее писал о «патроне»: «Человек сильного ума, твердой воли, бьющей оригинальности во внешности, образе мысли и действий. В нем все дышало страстью, порывом, непосредственностью, нечеловеческой энергией. По натуре борец сильный, даже дерзкий, он как бы искал поприще для состязания и, когда встречал противника, вступал с ним в решительный бой… На глазах у всех со сказочной быстротой проявлялась могучая натура, которая постепенно всем овладевала и всех вольно или невольно подчиняла себе… в работе его интересовала основная мысль и общее направление. К мелочам он никогда не придирался и не требовал условного канцелярского языка. Работать с ним было и приятно, и легко. Усваивал он новый предмет, что называется, на лету» [3, с. 208—209].
А. Н. Боханов , доктор исторических наук
«Уже в революцию 1905—1907 гг. частично сбылось предсказание С. Ю. Витте, высказанное им в 1903 году: «Россия составляет в одном отношении исключение из всех стран мира — народ систематически воспитывался в отсутствии понятия о собственности и законности… Для меня представляет огромный вопросительный знак: что может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятия о праве земельной собственности, ни понятия о твердости права вообще?
Какие исторические события явятся результатом этого?». 1917 год и последовавшие за ним события подтвердили пророчество Витте.
…Если бы верховная власть выполнила требования крестьянства, хотя бы в более мягкой форме выкупа помещичьих земель, как предлагал С. Ю. Витте и на чем настаивали кадеты, она, бесспорно, продлила бы жизнь монархии на достаточно долгий срок… Верховная власть пошла на столыпинскую реформу, которая, несмотря на стратегическую целесообразность, нашла отклик лишь у трети крестьянства, вызвав недовольство остальной, большей его части. В результате крестьянство нашло себе лидера в социалистах».
Б. Н. Миронов , доктор исторических наук
P. S.
Недавно студенты исторического отделения Ульяновского государственного университета задали нам неожиданный вопрос:
— Какая черта поведения Сергея Юльевича не просто вам симпатична, а вызывает искреннее, неподдельное восхищение?
— Министр путей сообщения Витте, сорокалетний холостяк, полюбил красивую, очаровательную даму. К сожалению, замужнюю. Но, может быть, драматическая коллизия заключалась даже не в этом. Ужас таился в ее национальности — Матильда Лисаневич была еврейкой. А императором, от которого зависела ее судьба (развод с мужем и благословение на брак с С. Ю. Витте), являлся Александр III — непримиримый антисемит, мечтавший о выселении «жидов» из России. Высший свет гадал, когда царь отправит в отставку своего министра.
Сергей Юльевич, распрощавшийся со всякими надеждами на карьеру, все-таки отважился на последний шаг и сказал императору, что не мыслит жизни без любимой женщины, а потому угроза увольнения его не пугает. И чудо произошло! Александр III вызвал обер-прокурора Синода Победоносцева, приказал ему немедленно оформить развод Лисаневич и разрешил Витте жениться на ком угодно, хоть на козе. Свое решение суровый царь объяснил тем, что он не представляет никакого другого человека, который мог бы заменить нынешнего министра путей сообщения.