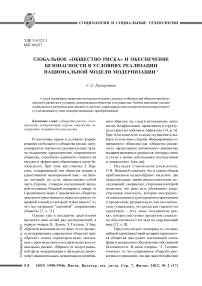Глобальное «общество риска» и обеспечение безопасности в условиях реализации национальной модели модернизации
Автор: Панкратов Сергей Анатольевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теоретико-методологическому анализу особенностей обеспечения безопасности развития в условиях модернизации общества и государства. Особое внимание уделено глобальным и региональным рискам и угрозам, характерным при осуществлении неорганичного (догоняющего) типа модернизационных преобразований.
"общество риска", безопасность, модернизация, угрозы, опасности, государство, политика безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/14974520
IDR: 14974520 | УДК: 316.323.3
Текст научной статьи Глобальное «общество риска» и обеспечение безопасности в условиях реализации национальной модели модернизации
В настоящее время в условиях формирования глобального «общества риска» актуализируется научно-исследовательская задача выделения характеристик современного общества, способного адекватно отвечать на вызовы и эффективно обеспечивать свою безопасность. При этом, как отмечал Т. Парсонс, «современный тип общества возник в единственной эволюционной зоне – на Западе, который, по сути, представляет собой часть Европы, ставшую наследницей западной половины Римской империи к северу от Средиземного моря. Следовательно, общество западного христианского мира послужило отправной точкой, из которой “взяло начало” то, что мы называем “системой” современных обществ» [7, с. 11].
Однако уже в последние десятилетия прошлого века целый ряд исследователей, в первую очередь Н. Луман, Э. Гидденс, У Бек, обратили внимание на тот факт, что в процессе модернизации современное общество приобретает новые характеристики, связанные с производством и воспроизводством социальных рисков. «Переход от индустриальной фазы модернизации к фазе риска происходит нежелательным, невидимым и неизбеж- ным образом; он, следуя автономному динамизму модернизации, проявляется в структуре ее скрытых побочных эффектов» [14, p. 6]. При этом социум не в силах осуществить выбор в ту или иную сторону. Формирование современного общества как «общества риска» «есть продолжение автономного динамизма модернизационных процессов, которые слепы и глухи к своим собственным последствиям и опасностям» [там же].
Исследуя становление рискологии, О.Н. Яницкий отмечает, что в самом общем приближении целесообразно выделять две существующие линии рискологических исследований: умеренную, сторонники которой полагают, что риск есть объективно существующая опасность, которая опосредуется социальными и культурными стереотипами и процессами; радикальную, чьи последователи утверждают, что риска как такового не существует – есть лишь «восприятие риска», которое выступает продуктом социально обусловленного взгляда на окружающий мир [12, с. 8].
При этом следует подчеркнуть, что важнейшей характеристикой модернизирующегося общества выступает постоянный поиск форм и механизмов обеспечения собственной безопасности. В свою очередь, Э. Гидденс отмечает то, что современное общество рис-когенно в принципе, так как даже бездействие чревато риском. При этом современный мир структурируется, главным образом, рисками, созданными самим человеком и образующими «среду риска»: угрозы и опасности, порождаемые рефлективностью модернити; угроза насилия над человеком, исходящая от индустриализации войн; угроза чувства бессмысленности человеческого существования, по-раждаемая попытками индивида соотнести свое личное бытие с процессами рефлективной модернизации [15, p. 102].
Фактически формирование «общества риска» детерминируется систематическим взаимодействием «современного», модернистского общества с угрозами и опасностями, производимыми процессом модернизации как таковым. В свою очередь, риски производятся легитимно во всех сферах общества – экономической, политической, социальной, что актуализирует в рамках научного дискурса исследование проблем как общей безопасности социума, так и его подсистем. Таким образом, при выстраивании модели безопасного современного модернизирующегося общества неизбежен пересмотр его идеально типической, нормативной модели с научно обоснованными механизмами обеспечения и пределами безопасности. Интересно и то обстоятельство, что как в процессе модернизации продуцируются социогенные риски, так и их накапливание, в свою очередь, детерминирует процесс социальных изменений, «перенаправляя» его векторы и приоритеты, влияя на пе-регруппировывание основных акторов социальных взаимодействий.
При исследовании проблем обеспечения безопасности конкретного модернизирующегося общества важно учитывать специфику выбранной и реализуемой модели преобразований. Известно, что модернизация как комплексный процесс проходила и стихийно, через постепенное, самопроизвольное накопление предпосылок в тех или иных областях общественной жизни, соединение которых давало качественный толчок (это в первую очередь характерно для первого эшелона модернизации, которым был регион Запада, – органичная модернизация), и путем сознательных усилий отдельных групп, элит, институтов (сюда относится второй эшелон – Россия, Япония, некоторые восточноевропейские, латиноамериканские государства; третий эшелон – раз- вивающиеся страны Азии, Африки, – запоздалая модернизация). Фактически «догоняющая модернизация» есть заимствование и адаптация институциональных структур и практик, сформированных в ходе органичной модернизации и неизбежно порождающих столкновение «догоняющего» общества с вызовами современности – модернити и традиционализма. Именно здесь источник и причина существования и реализации различных траекторий, способов и пространственно-временных рамок модернизации конкретных стран и регионов, на которые неоднократно указывали сторонники модернизационной парадигмы.
Вместе с тем в настоящее время воспроизводятся как специфические, так и общие опасности, характерные для глобального «общества риска». «В подобном обществе позитивная логика накопления богатства все активнее вытесняется негативной логикой производства, накопления и распространения рисков, что в конечном счете ведет к уничтожению созданных природой и человеком богатств. В обществе данного типа любая из сред жизнеобеспечения человека – географическая, техническая, социальная – таит в себе угрозу для человека и его жизни» [13, с. 42]. Страны и регионы, мировое сообщество в целом обратились к теоретическому обоснованию и практическому созданию систем безопасности жизнедеятельности.
В настоящее время в рамках отечественного обществознания различные аспекты безопасности разрабатывают Р.Г. Яновский, В.Н. Кузнецов, А.Г. Урсул, Ж.Т. Тощенко, Г.Г. Силласте, Э.Г. Кочетов, А.С. Капто и др. Несмотря на длительную историю изучения феномена «безопасности», тем не менее, в науке не сложилось его четкого понимания.
В «Социологической энциклопедии» под безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера, предполагающее установление политической, экономической и социальной стабильности в государстве, безусловное исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие международного сотрудничества на основе партнерства» [10, с. 83].
Иную трактовку в рамках сетевого понимания содержания и структуры феномена «безопасность – компромиссность» предлагает В.Н. Кузнецов. С его точки зрения, безопасность есть «сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов, надежно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищенность всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ жизни, традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры компромисса по поводу благополучия и справедливости для Всех» [3, с. 17].
М.И. Дзлиев и А.Д. Урсул в своей работе «Основы обеспечения безопасности России» отстаивают точку зрения о том, что под безопасностью следует понимать отсутствие опасности, то есть ситуацию, при которой для кого-нибудь или чего-нибудь не существует угрозы со стороны кого- или чего-либо [2, с. 9]. При этом авторы подчеркивают, что безопасность – это «не только общенаучная, но и малоисследованная философская категория. Она не является чем-то предметным, материальным и выступает некой абстрактной формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости конкретных объектов, их отношения к внутреннему и внешнему миру» [там же].
Известные исследователи В.В. Серебрянников и А.Т. Хлопьев исходят из того, что безопасность есть деятельность людей, общества и государства, мирового сообщества народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для выживания и развития [9, с. 16]. Авторы высказывают убеждение в том, что система безопасности не должна препятствовать ни эволюционным, ни революционным изменениям, если они назрели объективно. Ее задачей, напротив, выступает способствование преодо- лению без ущерба для общества и граждан устаревших форм жизни.
Важное значение имеет исследование новых подходов к безопасности в связи с современными концепциями развития, проведенное А.А. Прохожевым и И.А. Кармановой. С их точки зрения, ряд зарубежных ученых и идеологов предлагают заменить безопасность стран и территорий безопасностью людей, а также заменить обеспечение безопасности с помощью вооружения поступательным человеческим развитием [8, с. 32]. Фактически речь идет об отрицании концепции национальной безопасности (в первую очередь для развивающихся стран, второго и третьего эшелона модернизации), а безопасность человека предлагается понимать как отсутствие угроз в виде голода, болезней, репрессий и защиту от каких-либо нарушений повседневной жизни в семье, на рабочем месте или в обществе.
Безусловно, между развитием (в нашем случае особом ее виде – модернизации) и безопасностью существует глубокая и всесторонняя диалектическая взаимосвязь. В общем методологическом плане первичным является развитие, а безопасность вторична в силу своего функционального предназначения – обеспечения развития, защиты его от угроз. Но, как справедливо замечают авторы, «неразрывность отношений функций развития и безопасности объясняется прежде всего принципиальным единством всех процессов человеческой деятельности, деление которых на отдельные сферы, отрасли, направления носит чисто условный характер, облегчающий познание реальности, но не имеющих к ней отношения. Вторичность безопасности ничуть не умаляет ее роли и значения в объективной действительности» [там же, с. 35].
С нашей точки зрения, под безопасностью целесообразно понимать устойчивое состояние общественного организма, сохраняющего как свою целостность, так и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние вызовы (влияния). При этом безопасность общественной системы фактически подразумевает наличие множества состояний, при которых существенно важные для ее сохранения и развития свойства (целостность, относительная самостоятельность и устойчивость) остаются в допустимых параметрах, определяемых потребностями самой системы.
Таким образом, безопасность не является каким-то статичным состоянием равновесия, неким сдерживающим фактором развития, а устойчивость общественного организма связана с его способностью сохранять динамическое равновесие, успешно адаптироваться к изменяющимся условиям существования (см.: [4]).
Показателем эффективности системы безопасности и степени устойчивости самого социального объекта выступает коэффициент устойчивости, отражающий соотношение числа воздействий, которые объект способен уравновесить, к количеству, с которыми объект уравновеситься не в состоянии. Очевидно, что наиболее совершенной и развитой является та социальная система, которая оказывается способной не только уравновеситься с большим числом дезорганизующих воздействий, но также обобщить накопленный исторический опыт и положить его в основу собственной структуры безопасности.
Безопасность общества подразумевает наличие средств защищенности индивидов и групп, социальных институтов как от произвола, злоупотреблений государственной власти и ее структур, так и от преступных посягательств со стороны частных лиц и групп. Общественная безопасность – это условия и характер жизнедеятельности государства и общества, когда граждане, социальные группы, создаваемые ими объединения и организации свободно действуют в соответствии с их собственной природой и предназначением и способны нейтрализовать внешние и внутренние угрозы. Ее обобщенными характеристиками выступают развитость социального партнерства, достижение межнационального согласия и гражданского мира.
Государственная безопасность включает необходимые и достаточные условия для выполнения государством своих функций по управлению делами общества и обеспечению эффективного функционирования политической власти. Сама государственная безопасность выступает важнейшим механизмом обеспечения национальной безопасности и включает следующие критерии: нерушимость границ и сохранение территориальной целостности;
обеспечение суверенитета; поддержание условий функционирования и развития социальной и экономической систем; охрана конституционного строя и обеспечение правосудия.
В рамках модернизационной парадигмы, отражающей процессы современных социальных изменений, безопасность нельзя понимать как защиту ныне существующих структур и отношений. Обеспечение безопасности общества, наоборот, предполагает активное стимулирование и модернизацию неэффективных социальных институциональных образований и взаимодействий.
При этом важно вновь подчеркнуть то обстоятельство, что, несмотря на подверженность социальным рискам всех стран и народов и формирование глобального общества риска (то есть риски не ограничены пространством и временем), тем не менее, более всего риски проявляются в модернизирующихся обществах, выбравших путь «догоняющего развития». Риски, в отличие от опасностей прошлых эпох, являются следствием угрожающей мощи модернизации и порождаемых ею чувств неуверенности и страха. В современном обществе, по мнению Э. Гидденса, риск более субъективно ощущаем вследствие большей чувствительности к угрозам и опасностям (исчезновение религиозных оправданий, рационализаций), широкой осведомленности об угрозах (увеличение образовательного уровня), понимания ограниченных возможностей социальной экспертизы и т. д. (см.: [1]).
Раскрывая суть современных социальных трансформаций, П. Штомпка доказывает, что любые социальные изменения, а уж тем более в форме модернизации, – это культурные травмы, и вводит в научный оборот понятие «социальной травмы». Процесс модернизации общества несет в себе риски и угрозы, так как содержание этого процесса включает в себя разрушение прежних ценностей, норм, идеалов, представлений о социальной реальности (см.: [11]).
С нашей точки зрения, в рамках модернизационной парадигмы целесообразно выделить следующую типологию социальных угроз: угрозы, порождаемые асинхронностью социальных изменений (модернизационных преобразований) в различных сферах (экономической, политической и др.); угрозы, вызванные недостаточностью людских и природных ресурсов, отсутствием необходимого социального капитала; угрозы, актуализированные процессами урбанизации и демографическими диспропорциями; угрозы, возникающие вследствие обострения противоречий и конфликтов между противоборствующими социальными силами; угрозы, порождаемые неэффективной деятельностью социальных институтов; угрозы, продуцируемые несбалансированностью приоритетов и направлений в осуществлении социальной политики.
Поскольку в условиях формирования глобального «общества риска» абсолютно безопасного современного общества, тем более в условиях модернизации, не может быть в принципе, то особую важность принимает вопрос выбора показателей безопасности общества. В качестве методологического инструментария в данном случае выступают современные методы оценки уровня социального развития. Социальное развитие понимается как результат сложного диалектического взаимодействия разнонаправленных процессов – роста благосостояния, прогресса и негативного воздействия социальных и других опасностей, сдерживающих рост благосостояния общества и способных изменить саму траекторию развития (а в нашем случае – модернизации).
Еще в 1990 г. специалистами ООН был предложен интегральный показатель – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), фиксирующий реально достигнутый уровень развития в конкретных областях. ИРЧП обобщает три исходные позиции, характеризующие развитие человека: долголетие, образованность и уровень жизни. Несмотря на сравнительно небольшой срок использования этого показателя, его публикация вызывает реакцию элиты и населения, что способствует корректировке, в том числе и модернизационных процессов в социальной сфере.
В 1998 г. российские ученые под руководством Ю.В. Яковца предложили альтернативный показатель – индекс социокультурной динамики, который включает три исходных показателя: ожидаемую среднюю продолжительность жизни при рождении; личное потребление на душу населения; расходы на социокультурную сферу. Считается, что такой подход, раскрывая общие вложения в челове- ческий капитал, более объективен, чем показатели уровня грамотности и образования по методике ООН. Но показатель социокультурной динамики, как и ранее используемые показатели валового внутреннего продукта, валового национального продукта, многие индексы, используют в денежной форме, что не всегда корректно.
В большинстве стран мира используют собственные показатели социального развития. Так, в Японии в настоящее время действующая система благосостояния и качества принята в 1992 г. и состоит из восьми сфер жизнедеятельности (жизнь, расходы, работа, воспитание, здоровье, развлечения, обучение, социальные отношения) и четырех направлений оценки качества жизни (безопасность и стабильность, справедливость, свобода, комфортность), включая в общей сложности 240 показателей.
В РФ разработана система показателей, характеризующих социально-экономическое положение России и включающих в себя индексы, отражающие количественные и качественные характеристики состояния, тенденций и направлений развития страны и отдельных регионов. Все показатели (300) разбиты на семь отдельных групп: основные показатели; производство и товарные рынки; цены; финансы; уровень жизни и доходы населения; рынок труда; социальные вопросы, – что отражает стремление как можно полнее отразить объективную действительность.
На современном этапе отечественной модернизации оптимально использовать систему показателей, включающую в себя: масштабы поляризации доходов; долю безработных в составе трудоспособного населения; ожидаемую продолжительность жизни; уровень смертности; число зарегистрированных преступлений; величину прожиточного уровня и ряд других. Данный выбор связан с особой структурой рисков и угроз, характерных для модернизирующихся обществ (см.: [6]). При этом показатели благосостояния населения, его стабильности и т. д. отражают содержание и процесс реализации интересов общества в ходе социального развития, что и влияет на уровень обеспечения социальной безопасности и выбор соответствующих механизмов: ослабление антисоциальных сил, реконструкция социальной структуры, выработка новой социальной политики и т. д.
Таким образом, изучение вопросов обеспечения социальной безопасности современного общества связано прежде всего с тем, что в процессе реализации национальных моделей модернизации происходит деформация социальных структур и институтов, что в первую очередь отражается на жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельных социальных групп, индивидов. Анализ факторов безопасности российского общества имеет важное теоретическое и практическое значение для минимизации социальных опасностей, преодоления угроз и рисков в условиях противоречивости современного этапа модернизационных преобразований (см.: 15]).
Список литературы Глобальное «общество риска» и обеспечение безопасности в условиях реализации национальной модели модернизации
- Гидденс, Э. Судьба, риск и безопасность/Э. Гидденс//Thesis. -1994. -№ 5.
- Дзлиев, М. И. Основы обеспечения безопасности России/М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. -М.: Экономика, 2003.
- Кузнецов, В. Н. Социология безопасности/В. Н. Кузнецов. -М., 2007.
- Макеев, А. В. Политика и безопасность: взаимосвязь и соотношение/А. В. Макеев//Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. -1998. -№ 1. -С. 129-140.
- Панкратов, С. А. Модернизация и обеспечение безопасности современной России/С. А. Панкратов, М. В. Кирьянов, А. В. Рахлеев//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -Вып. 5. -2006. -С. 47-49.
- Панкратов, С. А. Угрозы и риски социальной безопасности современной России/С. А. Панкратов, А. В. Рахлеев//Вестник Волгоградского государственного университета. -Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. -Вып. 7. -2008. -С. 103-105.
- Парсонс, Т. Система современных обществ/Т. Парсонс. -М., 1997.
- Прохожев, А. А. Регионы России: социальное развитие и безопасность/А. А. Прохожев, И. А. Карманова. -М.: Тип. «Новости», 2004.
- Серебрянников, В. В. Социальная безопасность России/В. В. Серебрянников, А. Т. Хлопьев. -М.: Ин-т соц.-полит. исслед., 1996.
- Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. -М.: Мысль, 2003.
- Штомпка, П. Социология социальных изменений/П. Штомпка. -М.: Аспект Пресс, 1996.
- Яницкий, О. Н. Социология риска/О. Н. Яницкий. -М.: Изд-во LVS, 2003.
- Яницкий, О. Н. Чернобыльская катастрофа: опыт реконструкции риск -рефлексии/О. Н. Яницкий//Россия: риски и опасности «переходного» общества. -М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2000.
- Beck, U. The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization/U. Beck//Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in Modern Social Order/ed. by U. Beck, A. Giddens, S. Lash. -Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
- Giddens, A. The Conseguences of Modernity/A. Giddens. -Cambridge: Polity, 1990.