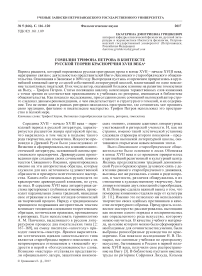Гомилии Трифона Петрова в контексте русской теории красноречия XVIII века
Автор: Гришкевич Екатерина Дмитриевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (166), 2017 года.
Бесплатный доступ
Период расцвета, который переживала русская ораторская проза в конце XVII - начале XVIII века, неразрывно связан с деятельностью представителей Выго-Лексинского старообрядческого общежительства. Основанная в Заонежье в 1694 году Выгорецкая пустынь со временем превратилась в крупнейший книжный центр со своей собственной литературной школой, воспитавшей не одно поколение талантливых писателей. В их числе автор, оказавший большое влияние на развитие гомилетики на Выгу, - Трифон Петров. Статья посвящена анализу композиции торжественных слов книжника с точки зрения ее соответствия предписаниям в учебниках по риторике, имевшихся в библиотеке общежительства. Как показало исследование, при создании своих сочинений выговский автор строго следовал данным рекомендациям, о чем свидетельствует и структура его гомилий, и их содержание. Тем не менее даже в рамках риторики находилось пространство, где сочинитель мог проявить свою эрудицию, фантазию и писательское мастерство. Трифон Петров использовал это пространство в полной мере.
Трифон петров, выговская старообрядческая пустынь, риторика, гомилетика
Короткий адрес: https://sciup.org/14751207
IDR: 14751207 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Гомилии Трифона Петрова в контексте русской теории красноречия XVIII века
Середина XVII – начало XVIII века – пере- ских «новин», ставшие адептами литературных
ходный период в русской литературе, характеризуется расцветом жанра ораторской прозы, что выразилось в том числе в подъеме такого рода творчества, как гомилетика. Искусство проповеди в Древней Руси было унаследовано от Византии и сформировалось под влиянием святоотеческой литературы, заложившей основы христианского красноречия. Древнерусские проповедники при создании своих сочинений, помимо текстов Священного Писания, ориентировались именно на эти авторитетные образцы, которые служили для них источником художественной образности и примером экзегетического мастерства. Каких-либо специальных руководств по красноречию древнерусский книжник, по сути, не знал. В середине XVII века литературная система претерпевает глубинные изменения, происходит кардинальная ломка традиций, нашедшая свое отражение и в смене взглядов сочинителей на творческий процесс. Наряду с традиционным принципом подражания авторитетным текстам возникает тенденция следования теоретическим образцам, поэтическим правилам, прописанным в риториках. Если использовать терминологию А. М. Панченко, выделившего в русском литературном процессе два писательских типа [2: 167–169], на смену писателю-«апостолу» приходит писатель-«мастер». Яркими выразителями эстетических идеалов «апостольского» типа являются старообрядцы первого поколения с их непримиримым отношением к «внешней» мудрости и верой в «богодухновенность» слова. Позицию «мастера» отстаивали представители официального лагеря, защитники никонов
умствований и риторской учености. И, как ни странно, именно такой эстетической установке следовали староверы второго поколения – представители выговской литературной школы, оказавшиеся открытыми новым веяниям эпохи.
Выго-Лексинское старообрядческое обще-жительство было основано в лесах Обонежья в конце XVII века и со временем превратилось в крупнейший религиозный и культурный центр. Являясь продолжателями традиций дониконов-ской Руси и бережно храня духовную связь с деятелями раннего старообрядческого движения, выговцы все же разошлись с ними в ряде вопросов, в частности, различия обнаружились в их отношении к художественному творчеству. Анализируя позиции двух поколений старообрядцев, Н. В. Понырко сделала важный вывод о том, что поморские книжники отделяли веру от культуры [4: 111]. Именно это позволило им использовать творчество своих идейных противников в качестве литературного образца. Премудрость и словесное мастерство рассматривались выговцами как явления одного порядка и воспринимались как определенного рода искусство, которому можно научиться. В качестве учебного материала, на основе которого можно было сформировать необходимые для сочинительства умения, были выбраны разнообразные руководства по красноречию. Как показало исследование Н. В. По-нырко, все основные учебники по ораторскому искусству, бытовавшие в России в первой половине XVIII века, получили свое распространение на Выгу [3]. В библиотеке пустыни имелись труды по риторике Софрония Лихуда, Козьмы
Афоноиверского, Феофана Прокоповича, Стефана Яворского, Георгия Даниловского, Андрея Белобоцкого. О. Д. Журавель удалось установить, что выговцам был также известен трактат из книги по гомилетике Иоанникия Галятовского [1: 22]. В 30-е годы XVIII века в общежительстве на основе названных сочинений был создан собственный вариант Риторики – Риторика-свод [3: 159], а во второй половине XVIII века путем переработки свода – Поморская риторика.
Риторика-свод известна в списке БАН, собрание Дружинина, № 122. В ее составе можно выделить две части: первая является универсальным вариантом риторики, она состоит из пяти разделов, повторяющихся во всех трудах по ораторскому искусству того времени: 1) Обретение (изобретение); 2) Благоглаголание; 3) Изложение; 4) Память; 5) Произношение. Каждый из разделов представляет собой компиляцию из учений разных авторов, которая со всей тщательностью была выполнена поморскими книжниками. Вторая часть Риторики – составленные самими вы-говцами парадигмы к материалу, изложенному в первой половине. Свод дает ценную информацию о том, какие именно руководства и рекомендации по гомилетике были приоритетными для основателей выговской литературной школы, и позволяет проникнуть в творческую лабораторию поморского сочинителя.
Цель настоящей статьи – на примере гомилий одного из наиболее известных выговских писателей – Трифона Петрова определить, какую функцию выполняли риторические руководства при создании торжественных слов, охватывали ли они весь процесс сочинительства или оставляли пространство для свободного творчества. Для нас важно понять, что способствовало выбору книжником той или иной повествовательной линии, что служило импульсом для развития определенных тем и мотивов в произведении. Мы сфокусируем внимание на разделах риторики, которые оказывали непосредственное влияние на содержательный компонент сочинений, а именно инвенцию и диспозицию. Прежде чем перейти к их более подробной характеристике, следует сказать несколько слов об авторе, чьи произведения послужили материалом для нашего исследования.
Трифон Петров (1670–1766) относится к первому поколению писателей выговской школы. В киновии он занимал должность уставщика, кроме того, входил в число старших соборных, что говорит о его высоком статусе в братии. Перу Трифона Петрова принадлежит внушительное число произведений, написанных в разных жанрах, но основную их часть составляют гомилии, посвященные различным праздникам церковного календаря. О них и пойдет речь далее.
Авторы большинства риторик интересующего нас времени выделяли в составе произведения четыре композиционных элемента: 1) предизве-стие, 2) повествование, 3) утвержение, 4) надсло-вие. Предварять слово могла фема (тема) – цитата, аккумулирующая основную мысль сочинения. В качестве обязательного, крайне важного компонента фема рассматривается в Риторике Раймунда Люллия (выговский список: БАН, собрание Дружинина, № 123 (154)), представленные в ней рекомендации были учтены в Риторике-своде. Гомилии Трифона Петрова свидетельствуют о том, что их автор был прекрасно знаком с этими предписаниями и неотступно им следовал. Каждое свое слово проповедник начинал с фемы, выбранной из Священного Писания или гимнографического текста, значение которой постепенно расширял и углублял в дальнейшем. В качестве примера приведем гомилию Трифона Петрова на перенесение мощей Зосимы и Савватия Соловецких. Фемой для этого сочинения послужила строка из тропаря преподобным на перенесение мощей: «Яко свѣтилницы всесвѣтлии явистеся во отоцѣ окиана-моря, преподобнии отцы Зосимо и Саватие»1. На первый взгляд, выбранная Трифоном Петровым фема ничем не примечательна: в ней использована вполне традиционная для гимнографии и церковно-панегирической литературы метафора «светильник», часто употребляемая по отношению к святым. Невольно напрашивается вопрос: в чем же причина того, что ритор в качестве цитаты, синтезирующей смысловое наполнение всего сочинения, избрал столь незамысловатый стих церковного гимна? Ответ на него раскрывается ходом всего повествования. С первых строк вступления, посвященного прославлению Зосимы и Савватия, книжник настойчиво развивает заявленную в феме «световую» символику. Нанизывая один образ на другой, он подводит слушателей к идее о том, что не только богоугодная жизнь, сопряженная с материальными и духовными трудностями, сделала Зо-симу и Савватия святыми, но их апостольское служение Богу, выразившееся в распространении Божьего Слова среди некрещенного народа: «…научивше окрестъ моря языкъ лопскии вѣровати во Отца и Сына и Святаго Духа, введ-ше и благозаконие христианское, научивше лопи служити Святѣи Троицѣ в цѣломудрии, и правде, и истинѣ…»2. Другой смысловой оттенок феме придает рассказ о нетленных чудотворных мощах святых – явленном свидетельстве богоугодной жизни Зосимы и Савватия. Даже после смерти они продолжают излучать свет, обращая взор людей к Богу силой своих чудес.
Составляя предизвестие, то есть вступительную часть слова, ритор должен был помнить о том, что основная цель предисловия – овладеть вниманием слушателей, следовательно, начало проповеди должно быть ясным, эмоциональным и увлекательным одновременно. Вариантов для реализации этой цели предлагалось множество, зависели они и от характера события, и от идеи автора. Например, в Риторике Козьмы наиболее предпочтительным для проповедника назван «образ от недоумения». Ритор настолько поражен важностью прославляемого события, что не знает, как подобрать подходящие слова для его описания. Отсюда укоры в своем «худогласии» и невежестве. Такой приступ часто используется Трифоном Петровым; приведем небольшой фрагмент из его гомилии на Сошествие Святого Духа: «Но что речемъ или что возглаголемъ? И киимъ словомъ похвалимъ Святаго Духа – Бога истинна, от Бога истинна исходяща, и вездѣ суща, и вся исполняюща? – Не вѣмы. Но убо кто и увѣсть не точию от земленородныхъ, но и от небесныхъ по достоянию похвалити Духа Святаго Господа»3.
Многие праздничные слова Трифона Петрова открывает так называемый образ от сравнения. Его излюбленным вариантом является сравнение, построенное на внутренней антитезе: прославление Небесного Царя и святых он соотносит с торжественными речами и похвалой в честь земных царей и их подчиненных, тем самым противопоставляя вечное и преходящее, божественное и земное. Примером может служить цитата из уже упомянутого «Слова на перенесение мощей Зоси-мы и Савватия Соловецких»: «…аще бо в ѣ ка сего царемъ, служащимъ министромъ честь отдается по достоинству и прив ѣ тствуется словесы похвал-ными, яко носятъ знамения или потенты царьска-го служения, кольми паче по л ѣ пот ѣ долженству-етъ преподобнымъ отцемъ Зосим ѣ и Саватию въ честь словеса похвалная, и мысли высокия, и слу-шающихъ благоразсуждение всев ѣ рное отдавати, яко носящимъ знамения Божия служения, не на рам ѣ хъ пов ѣ шены или на хартияхъ начертаны по вн ѣ шнихъ, но на святыхъ мощехъ пр ѣ подобныхъ и на ракахъ нетл ѣ ниемъ чюдесы яв ѣ и на душахъ ихъ благодатию начертанныя»4.
Интересный ход для привлечения внимания слушателей использован Трифоном Петровым в «Слове похвальном Александру Свирскому». Гомилия начинается с истории об одном живописце, изобразившем на холсте некое покрывало. Изображение получилось настолько реалистичным, что казалось, будто покров настоящий; люди, видевшие картину, просили художника снять накинутую ткань и показать, что за ней скрыто. Автор слова обещает слушателям не уподобляться «зографу», посмеявшемуся над своими зрителями, и рассказать историю действительно истинную, а не только кажущуюся таковой. При этом образ живописательства он делает сквозным в гомилии и выстраивает дальнейшее повествование с опорой на него. Такой вариант начала в Риторике-своде, а туда он попал из Риторики Козьмы, назван «образом от художества», а в качестве его парадигмы выступает рассказ про «зо-графа». Иными словами, идею вступления для своего произведения Трифон Петров, вероятно, позаимствовал из Риторики Козьмы, пересказав историю, приведенную в ней, в пример.
Вторая часть сочинения, выделявшаяся авторами риторик, – повествование – по сути, являлась мостом для перехода к основной части. Задача повествования заключалась в том, чтобы настроить слушателя на нужный лад. Согласно учебникам по красноречию, оно должно было содержать краткую формулировку того, о чем далее пойдет речь. Обращаясь к аудитории, проповеднику следовало разъяснить, почему его речь достойна внимания: «И аще убо и потрясаетъ всякъ слухъ страхъ, яко вельми грозно есть предложение, но любы Святаго Духа препоб ѣ ждаетъ страхъ, по рекшему: “Любы изгонитъ страхъ”, и сего ради лишшее внимати долженствуетъ. При семъ, возложивше вся, яже о нашемъ тщании, на Бога, Духа Святаго, наставляющаго на всякую истину, приходимъ до бес ѣ ды»5. Приведенная цитата из слова на день Святой Троицы является также наглядным примером заботы Трифона Петрова над тем, чтобы переход от одной части к другой был плавным и гармоничным. Часто в роли нити, связывающей начало с главной частью, у книжника выступает образ гуслей, как в Слове на Вход Господень в Иерусалим: «В сию сладкогласную церковную цевницу пречюдна-го торжественнаго органа нашего худаго языка ударимъ словеснымъ бряцалом…»6. Надо заметить, что образ музыкального инструмента появляется у Трифона Петрова далеко не случайно. Е. М. Юхименко обратила внимание на то, что его произведения отличают как бы вплетенные в текст церковные песнопения [5: 134]. Действительно, использование цитат из гимнографии является стилистической приметой Трифона Петрова. Нередко именно строки из службы празднику становятся отправной точкой для риторского наращения в основной части гомилий, которая в сочинениях по теории проповеднического творчества именуется «утвержением» (утверждением).
«Утвержение» объединяет в себе доводы, необходимые для подкрепления того, чему посвящено произведение. Доводы во всех учебниках по красноречию подразделялись на два вида: от внешних мест и от внутренних, а их описание содержалось в разделе «изобретение». Места внутренние – не что иное, как логико-смысловая основа текста, а места внешние – те или иные источники, которые привлекались автором для аргументации утверждений, связанных с темой сочинения. К сожалению, в рамках одной статьи нет возможности рассмотреть каждое из положений инвенции и проиллюстрировать их реализацию в текстах Трифона Петрова, однако стоит отметить, что в качестве «подкреплений» книжник нередко использовал богослужебные тексты, хотя риторики не содержали такого рода предписаний. Кроме того, инвенция позволяла проповеднику проявить свою эрудицию и изобретательность, поскольку он мог выбрать такую линию повествования, которая, по его мнению, являлась наиболее убедительной. Так, основу Слова похвального на праздник Воздвижения (полное название: «На воздвижение честнаго и животворящаго креста Господня слово похвальное, сочиненное лѣта 1735») составляют пассажи из Службы Кресту, делающие речь необычайно ритмичной и возвышенной. Да и сам автор рассматривает свое слово как часть торжественного богослужения, что доказывает введение в повествование описания ритуала, который сопровождает священнодействие: «Крестъ в церкви на священнѣи трапезѣ предлагается днесь, и церковныя нѣдра освящаются. Крестъ архиерея рукама подъемлется днесь, и священная церкви благоукрашается ликовствующи. Крест посредѣ церкви происходитъ днесь, и церковь вся просвещается празднующи…»6. В гомилии на Сретение членению с последующим тщательным исследованием подвергается евангельский рассказ о предреченной встрече в храме; экзегетическую направленность имеет и слово на Благовещение, где в центре авторского внимания оказывается диалог архангела Гавриила с Девой Марией. Более замысловатый характер отличает гомилию на Рождество Иоанна Предтечи, что, кстати, отражено в определении жанра произведения самим автором, а озаглавлено оно следующим образом: «На рожество велика-го во пророцѣхъ Иоанна Предотечи и Крестителя Господня слово торжественное, сочиненное символически». В Риторике-своде нашли место предписания, взятые из разных риторик и касающиеся составления слов на рождество разных
Риторика Козьмы
Царственноименная Дѣва Мариа – сладчайшее гортани моему возглашение – есть, яко небо, преиспещренная звѣздами // добродѣтелей и освящаемо солнцемъ правды; яко гора, осѣненна благодатми Духа Святаго, из нея же и камень изсѣчеся кромѣ руки человѣческая; яко порфиро-личныи шипокъ, естественою червленностию увеселяетъ всякую душу печальную. <…> Рѣка златоструйная, понеже всякого человѣка благодатей своих упоявает; мостъ твердый, по нему же всякая душа горное море мира сего преходитъ спасенна.
(БАН. 21.8.5. Л. 32–32 об.).
О Пресвятая Дѣво Марие, души моея утѣшение и сердца моего взыграние и веселие, слава твоя небеса превзыде, власть твоя и под землею сущыя устрашила. Вси человѣков роди Царицу тя именуютъ, зане подданную имаши не всю токмо подсолнечную, но и пренебесную тварь присно; Госпожу тя проповѣдуютъ, зане раби твои вси мы и имя твое имѣнуемъ; Воеводу тя величаем, зане имаши непобѣдимое воиньство небесныя бесплотныхъ вся чины, Мати еси богородителная. И кто // не вѣсть, яко родила еси Сына – всѣхъ Бога.
(БАН. 21.8.5. Л. 37–37 об.).
лиц. Согласно одному из предписаний, в таком сочинении непременно должен присутствовать рассказ о том, что предваряло рождение, сопутствовало ему и последовало потом. С опорой на Евангелие от Луки Трифон Петров выстраивает текст в соответствии с этой схемой, но облекает его в метафорическую форму. Историю о чудесах, предшествующих и сопровождающих рождение Иоанна Крестителя, ритор уподобляет кушаньям, которые преподносятся на торжественной трапезе. Это образное сравнение является сквозным и выдерживается на протяжении всего сочинения, от начала до конца.
Использование подобного приема – свидетельство влияния барочной эстетики с ее известной любовью к сочетанию несочетаемого, эффектным метафорам и неожиданным сопоставлениям. Еще одним ярким примером проникновения барочной образности служит Слово на Рождество Девы Марии. В одном из фрагментов в одном ряду с именем Марии стоят героини древнегреческой мифологии: «Престаните и вы, о баснос-лови, и перстъ на уст ѣ хъ положите, баснословя-ще притворн ѣ Афродиту, понеже непритворн ѣ вся доброты взяла скипетры Мариа. Должайшии в ѣ цы, имя Елены умолчите, зане ино возжеся имя – доброты Марии, еже во в ѣ ки безконечныя не угаснетъ…»7. Справедливости ради нужно заметить, что фрагмент текста, из которого приведена цитата, сочинен не самим Трифоном Петровым. Его источником является парадигма на «вину от случайного», читающаяся в Риторике Козьмы. Нам удалось выявить еще ряд отрывков, заимствованных выговским книжником из примеров, иллюстрирующих те или иные места инвенции. Приведем некоторые из них:
Слово на Рождество Богородицы Трифона Петрова
Тако царственоименная Мариа, яко небо, преиспещрен-ная звѣздами добродѣтелей и освящаема солнцемъ правды; яко гора, осѣнена благодатьми; яко порфироличный ши-покъ, естественою червленостию веселитъ всякую душу печалную; яко рѣка златоструйная, всю тварь благодатьми своими упоевающая, мостъ твердый, по нему же всякая душа горное море мира сего преходитъ спасена.
(РГБ. Собрание Барсова. № 367. Л. 10 об.).
Да кто измѣрити может величество твое, о пречистая Дѣво Марие? Душамъ утѣшение и сердечное веселие; слава твоя небеса превзыде, власть твоя и под землею сущыя устрашает. Вси человѣковъ роди Царицу тя именуют, зане подданную имаше не токмо подсолнечную всю, но и пре-небесную тварь; присно Госпожу тя проповѣдают, зане раби твои вси мы и имя твое имѣнуемъ; Воеводу тя величаемъ, зане имаши непобѣдимое воинство небесное – бесплотныхъ вся чины, Мати еси // Божия. И кто не вѣсть, яко родила еси Сына – всѣхъ Бога, его же моли спастися душамъ нашимъ.
(РГБ. Собрание Барсова. № 367. Л. 12–12 об.).
Последняя часть слова, надсловие, выполняло функцию обобщения всего того, о чем шла речь, в заключение произносилась молитва. Как отметила Е. М. Юхименко, гомилии Трифона Петрова почти не содержат примет своего вы-говского происхождения [5: 136]. Но в некоторых его текстах в финальной части все же встречаются отсылки к настоящему времени и насущным проблемам пустыни. Так, в Слове на Воздвижение читаем: «Предстани противо борющихъ ны с нами, изсуни оружие твое сопротивъ гонящимъ ны, рцы намъ: “Спасение ваше есмь”, да постыдятся и посрамятся вси имущии пожрети насъ…» (РГБ. Рогожское собрание. № 609. Л. 47 об.8).
Итак, рассмотрение гомилий Трифона Петрова в контексте теоретических трудов по красноречию, известных на Выгу, позволило нам сде- лать вывод о том, что свои сочинения выговский уставщик создавал, руководствуясь содержащимися в них правилами. Путь, по которому следовало двигаться ритору, задавали диспозиция и места инвенции, но способ и характер движения избирал сам книжник. Для каждого торжественного события Трифон Петров находил свой вариант освещения и свою тональность, при этом оставался верен своей главной цели – донести до слушателя значение того или иного церковного праздника, пробудить в его душе искренние чувства. Именно поэтому за пышностью и витиеватостью языка распознаются прозрачность стиля и строгая логика, за обилием образов и цитат – ясность мысли и широкая эрудиция, но самое главное – его слово неизменно живо и емко, а это уже признак писательского мастерства.
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-14-10001.
HOMILIES OF TRYPHON PETROV IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN THEORY
OF RHETORIC OF THE XVIII CENTURY
Список литературы Гомилии Трифона Петрова в контексте русской теории красноречия XVIII века
- Журавель О. Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII -начала XXI в.: темы,проблемы, поэтика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 442 с.
- Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л.: Наука, 1973. 280 с.
- Понырко Н. В. Учебники риторики на Выгу//Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1981. Т. 36. С. 154-162.
- Понырко Н. В. Эстетические позиции писателей выговской литературной школы//Книжные центры Древней Руси: XVII в. СПб.: Наука, 1994. С. 104-112.
- Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. М.: Языки славянских культур, 2002. Т. 1. 544 с.