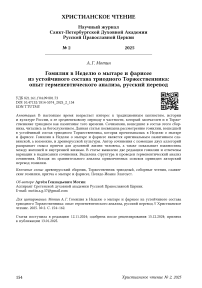Гомилия в Неделю о мытаре и фарисее из устойчивого состава триодного Торжественника: опыт герменевтического анализа, русский перевод
Автор: А.Г. Мотин
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время возрастает интерес к традиционным ценностям, истории и культуре России, к ее средневековому периоду в частности, который запечатлен и в Торжественнике триодном как памятнике того времени. Сочинения, вошедшие в состав этого сборника, читались за богослужением. Данная статья посвящена рассмотрению гомилии, вошедшей в устойчивый состав триодного Торжественника, которая прочитывалась в Неделю о мытаре и фарисее. Гомилия в Неделю о мытаре и фарисее является оригинальным памятником славянской, а возможно, и древнерусской культуры. Автор сочинения с помощью двух аллегорий раскрывает смысл притчи для духовной жизни человека, а также показывает взаимосвязь между внешней и внутренней жизнью. В статье выявлено две редакции гомилии и отмечены вариации в надписании сочинения. Выделена структура и проведен герменевтический анализ сочинения. Исходя из сравнительного анализа привлеченных списков приведен авторский перевод гомилии.
Древнерусский сборник, Торжественник триодный, соборные чтения, славянские гомилии, притча о мытаре и фарисее, Псевдо-Иоанн Златоуст
Короткий адрес: https://sciup.org/140309607
IDR: 140309607 | УДК: 821.161.1'04.09:801.73 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_154
Текст научной статьи Гомилия в Неделю о мытаре и фарисее из устойчивого состава триодного Торжественника: опыт герменевтического анализа, русский перевод
Для подготовки к Святой Четыредесятнице в годовом богослужебном круге имеются недели, в которые Церковь обращается к верующим через тексты служб и проповеди, чтобы настроить их и духовно подготовить к вступлению в пост.
До начала XVIII столетия на Руси, безусловно, были свои проповедники, однако устная проповедь как повсеместное явление не была распространена [Еремин, 1968, 76]. Лишь с приходом схоластического образования во 2-й пол. XVII в. она начинает распространяться в Московском государстве [Никольский, 1901, 221–222].
В качестве причины, которой некоторые исследователи XIX столетия пытались объяснить отсутствие живой проповеди, указывается необразованность и нравственный упадок духовенства. Проведя исследование, Н. К. Никольский объяснил это явление отсутствием таких полномочий у духовенства [Никольский, 1901, 222].
Типикон и Кормчая книга определяли церковную жизнь на Руси. Они никому не предоставляли неограниченных полномочий на создание и произнесение своих проповедей за богослужением [Никольский, 1901, 222]. Как Устав патриарха Алексия, так и Устав в Иерусалимской редакции не упоминают о живой проповеди предстоятеля в храме [Никольский, 1901, 222].
В те времена живую проповедь заменяли собой уставные или соборные чтения [Никольский, 1901, 224]. Они представляют собой жития святых, фрагменты из творений отцов Церкви, торжественные слова по случаю определенных праздников и другие назидательные сочинения. Их чтение за богослужением способствовало духовному и нравственному воспитанию прихожан. Уставные чтения располагались в специальных богослужебных сборниках, одним из которых является триодный Торжественник.
Триодный Торжественник — древнерусский сборник торжественных и назидательных сочинений, посвященных праздникам и особым дням подвижного богослужебного круга. Творения, воходящие в его состав, посвящены преимущественно воскресным дням триодного цикла начиная с Недели о мытаре и фарисее [Черто-рицкая, 1982, 6].
Как и в других древнерусских сборниках, в триодном Торжественнике многие сочинения не принадлежат тем святым отцам, которым они атрибутированы. Поэтому содержание исследуемого сборника нельзя полностью отнести к святоотеческому наследию [Горский, Невоструев, 1862, II].
Исследователи предполагают, что название «Торжественник» является прямым переводом названия схожих греческих сборников — панегириков [Опись, 1881, 694].
По свидетельству современников, в нач. XX в. в Российской империи Торжественники еще использовались за богослужением, но преимущественно в монастырях, а старообрядцами — в церквах и молельнях [Дружинин, 1911, 34].
Изучение древнерусских сборников, и Торжественника триодного в частности, началось в России в XIX в., однако в связи с событиями 1917 г. исследования в этом направлении были прекращены. До кон. 70-х гг. XX в. в научной литературе вопросы о систематизации, истории появления и развития древнерусских сборников не поднимались [Дмитриева, 1972, 150].
Состав данного сборника, как и многих других древнерусских рукописных сводов, непостоянен и может меняться от списка к списку. Т. В. Черторицкая, проанализировав содержание ряда списков XIV–XVII вв., выделила устойчивый состав наиболее распространенного типа триодного Торжественника [Черторицкая, 1990, 348–349]. Г. С. Баранкова, в свою очередь, отметила, что на данный момент вопрос о происхождении и изменениях сочинений, вошедших, в частности, и в данный сборник, исследователями в целом не рассматривался [Баранкова, 2023, 46].
Литературное оформление триодного Торжественника проходило на Руси в конце XIV-XV вв. [Черторицкая, 1978, 24]. Формирование и развитие данного сборника, безусловно, неразрывно связано с историей Древней Руси. Его содержание запечатлело духовные интересы и систему ценностей того времени. Триодный Торжественник повлиял на развитие оригинальной русской письменности.
Из вышесказанного можно заключить, что этот сборник служит важным источником для изучения древнерусской культуры.
Сегодня возрастает интерес к традиционным ценностям, истории и культуре Древней Руси и России, которые отчасти отражены и в триодном Торжественнике как памятнике своего времени, что обусловливает актуальность настоящего исследования.
В данной статье рассмотрено первое сочинение, вошедшее в устойчивый состав триодного Торжественника. Его начальные слова: «Приидите убо днесь, братие, по-слушавше гласа Христова мудрейши будем» [Черторицкая, 1990, 349].
Гомилия может быть найдена и в других древнерусских сборниках, таких как «Златоуст», «Златая цепь», «Измарагд» и др. [Баранкова, 2023, 45], что является основанием для их использования при изучении сочинения.
Известны две редакции упомянутого поучения [Баранкова, 2023, 48]. Вторая представляет собой, по сути, новое сочинение, расширенное и включающее в себя фразы и краткий пересказ первой редакции, иногда с потерей логических связей и общего смысла первоначального текста [Баранкова, 2023, 50–51].
В данной статье будет рассматриваться только первая редакция поучения. Она является оригинальным памятником славянской гомилетики и, как отмечает Е. Э. Гран-стрем, вероятнее всего, русского происхождения [Гранстрем, 1980, 352]. Г. С. Баранкова предполагает: данное сочинение могло быть известно свт. Кириллу Туровскому, или, что маловероятно, является его творением [Баранкова, 2023, 51].
Из вышесказанного можно заключить: содержание гомилии представляет собой рефлексию евангельской притчи о мытаре и фарисее славянского, а возможно, и древнерусского книжника.
Текст поучения был несколько раз опубликован в кон. XIX в. [Петухов, 1886, 1–4; Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, 1897, 168–170], а также в 2023 г. [Баранкова, 2023, 55–61], однако изданного русского перевода нет.
Из современных исследователей целенаправленным изучением данной гомилии занимались Л. Н. Точилина [Точилина, 2000] и Г. С. Баранкова [Баранкова, 2023].
Для изучения сочинения были привлечены рукописи:
-
— РНБ, собр. Соловецкое, № 1051/1160, XV в. Торжественник триодный (далее Сол. № 1051/1160);
-
— РНБ, собр. Соловецкое, № 62/1428, 1493 г. Торжественник триодный (далее Сол. Анз. № 62/1428);
-
— РНБ, собр. Погодина, № 199, 1551 г. Торжественник триодный (далее Погод. № 199);
-
— РГАДА, Ф. 187, № 84, 1524–1525 гг. Торжественник триодный постный (далее РГАДА № 84);
-
— РГАДА, Ф. 187, № 721, кон. XVI в. Торжественник триодный постный (далее РГАДА № 721);
-
— РГАДА, Ф. 196, № 656, кон. XVI в. Торжественник триодный постный и цветной с добавлением (далее РГАДА № 656);
-
— РГБ, собр. Егорова, № 565, кон. XV в. Сборник поучений и притч (далее Егор. № 565);
-
— РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 9, кон. XIV в. Поучения свт. Иоанна Зла-тоустаго и других (далее ТСЛ № 9);
-
— РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 404, XV — нач. XVI вв. Синаксарь и Поучения (далее ТСЛ № 404).
В заглавии большинства списков указано, что это «поучение» (Сол. № 1051/1160, Сол. Анз. № 62/1428, Погод. № 199, РГАДА № 84, РГАДА № 721, Егор. № 565, ТСЛ № 404), в ТСЛ №9 — «слово», а в РГАДА № 656 — «недели о мытари и фарисеи синаксар».
Почти во всех списках оно надписано именем свт. Иоанна Златоуста, кроме РГАДА № 84, РГАДА № 721, где оно усвоено прп. Феодору Студиту, и РГАДА № 656, где авторство вовсе не указано.
Сравнительный анализ списков поучения из вышеупомянутых рукописей показывает: в большинстве из них сохранено основное содержание, однако есть небольшие разночтения, которые не меняют смысл текста.
Далее будет использован наиболее полный вариант гомилии, полученный из выбранных списков, и авторский русский перевод. В квадратные скобки заключены слова, добавленные нами для ясности и связности речи.
Структурно в гомилии можно выделить введение, два смысловых блока, которые содержат в себе аллегории с комментариями, и заключение.
Далее рассмотрен текст введения.
Придите же сегодня, братия, послушав слов Христовых, мудрее будем. Притчу о фарисее и мытаре для нашего спасения произносит, ибо Он не пришел ради праведных, но грешных [ призвать ] на покаяние (ср. Мк 2:17; Лк 5:32) .
Здесь автор гомилии отмечает, что притча, произнесенная Христом, указывает путь ко спасению, которое достигается через покаяние.
Первый смысловой блок таков.
Человека два вошли в Храм помолиться: один — фарисей, а другой — мытарь. От начала слов узнаем: каждый из нас в себе обоих имеет. Понимай Храм [ как ] устроение своего тела, потому что говорит апостол: мы — храмы Бога Живого (ср. 2 Кор 6:16). Человека же два — сердце и душа, в которых — праведность и грех. Потому что и праведность повергается гордостью, грех же смирением уничтожается. Говорит же Давид: ибо не оправдается перед Тобою всякий живущий (Пс 142:2), и еще: я смирился, и Он спас меня (Пс 114:5). Сердце же — фарисей, который не хранит добродетелей, но о [ их ] исполнении тщеславится, а на более нерадивых возносится, ибо не знает о себе написанного: не хвалитесь, не говорите [ слов ] надменных в гордыне своей, да не выйдет самовосхваление из уст ваших (1 Цар 2:3). Сама же душа показывается мытарем, потому что чистой сотворена Богом и, в теле осквернившись, не хочет взглянуть на небо и, ударяя себя осознанием злых дел, безгласными воздыханиями взывает: Боже, даром меня помилуй, которое [ означает ] не пожелай попросить от меня отчета. Тем покаянием он и получает оправдание.
Но пусть никто об этом не соблазняется, представляя человека надвое разделяемого, но мысленно от слов отделяемся. Сказано: ибо воюет всегда плоть против души (ср. Гал 5:17). Два противника не перестают, борясь: восстает ненасытность на пост, надменность на целомудрие, блуд на чистоту душевную.
Следует отметить, что приведенное толкование притчи о мытаре и фарисее является самобытным: оно использует сравнение частей человеческого естества с мытарем и фарисеем, что нехарактерно для святоотеческих трудов.
Здесь под словом «храм» понимается человек в своей целостности, на что указывает отсылка к словам апостола: «Ибо вы храм Бога живаго» (ср. 2 Кор 6:16).
Фарисея книжник ассоциирует с сердцем. В православной антропологии понятие сердца не тождественно соответствующему органу в теле, который является лишь одним из аспектов этого понятия. Сердце — центр жизни человека, его телесных, душевных и духовных сил (см.: [Феофан Затворник, 2012, 27–28]).
Мытарь в аллегории ассоциируется с душой. Поскольку сердце является, в частности, и частью души, то об их противопоставлении в данной аллегории говорить нельзя.
Автор утверждает: в сердце и душе может быть и праведность, и грех. По слову прп. Макария Великого, в сердце, а следовательно, и в душе сокрыты не только жизнь, Царство Небесное и Бог, но и все сокровища порока (см.: [Макарий Великий, 1880, 365]).
Далее сказано, что всякий человек во время своей жизни может впадать в грех и очищаться через смирение и покаяние, и нет тех, кто мог бы оправдаться своими делами, что подчеркнуто словами из Псалтири: «Ибо не оправдается перед Тобою всякий живущий» (Пс 142:2); «Я смирился, и Он спас меня» (Пс 114:5).
Сердце названо фарисеем потому, что из него исходят греховные помыслы гордости и тщеславия, в случае принятия которых все добродетельные труды будут напрасными. Эту мысль книжник подкрепляет цитатой из книги Царств: «Не хвалитесь, не говорите [слов] надменных в гордыне своей, да не выйдет самовосхваление из уст ваших» (1 Цар 2:3).
Душа названа мытарем, поскольку изначально она чиста, однако из-за греховной жизни оскверняется. Фразой «не хочет взглянуть на небо и, ударяя себя осознанием злых дел», которая говорит о совести, книжник указывает на высшую часть души — дух, который, как пишет свт. Феофан Затворник, «содержит чувство Божества — совесть и ничем неудовлетворимость» [Феофан Затворник, 1898, 162].
Слова приведенной краткой молитвы являются результатом серьезных внутренних перемен в человеке. Преподобный Иоанн Лествичник писал, что молитва — зеркало духовного возрастания и обнаружение духовного устроения (см.: [Иоанн Лествич-ник, 2013, 395]).
В приведенной молитве можно выделить тему осознания своей греховности, смирения и надежды не на себя и свои дела, а на Бога. И именно этими переменами, которые отражены в молитве, человек и получает оправдание.
Далее книжник говорит, чтобы никто не соблазнялся приведенной аллегорией и отделил мысль от слов, то есть не понимал это буквально. Всякая аллегория образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но она не во всем подобна ему.
Ссылка на слова апостола — «ибо воюет всегда плоть против души» (ср. Гал 5:17), и ряд противопоставлений (ненасытность — пост, надменность — целомудрие, блуд — душевная чистота) указывают на действующие в человеке страсти и добродетели. Как пишет прп. Иоанн Кассиан Римлянин, вожделения плоти и духа постоянно противостоят друг другу: вожделения плоти влекут людей к порокам и радостям, которые дают сиюминутный покой, а устремления духа направлены на духовное и стремятся исключить даже и необходимые потребности плоти (см.: [Иоанн Кассиан Римлянин, 1993, 230]).
Таким образом, посредством этой притчи книжник обращает внимание на внутреннюю жизнь человека. Нужно следить за исходящими из сердца помыслами, чтобы сохранить добродетели и не сделать их напрасными. Необходимо прислушиваться к совести, духовно совершенствоваться и прибегать к покаянию, призывая Бога себе в помощь, чтобы получить оправдание.
Ниже проанализирован второй смысловой блок.
Были два конных воина — мытарь и фарисей. И запряг фарисей два коня, чтобы достичь вечной жизни. Один конь — добродетели и молитва, а другой конь — гордость и надменность. И осуждение свалило с ног надменность добродетели, и разбилась законная колесница, и погиб самомнительный всадник. Никто от себя не принимает чести, но призванный от Бога (ср. Евр 5:4). Апостол сказал: не превозносись, пребывая на ветви, [ ибо ] не ты корень носишь, но корень тебя (ср. Рим 11:18).
Запряг мытарь также два коня. Один конь — злые дела, корыстолюбие и нечистота, и ненасытность. А другой конь — уничижение, смирение и надежда. И спасла всадника смиренная надежда, ибо одним словом мытарь получил оправдание, сказав: Боже, очисти меня грешного. Хорошо сказал пророк: близок Господь ко всем призывающим Его в истине (ср. Пс 144:18). И слово превозмогло дело.
Фарисеи же назывались праведниками и считались исполняющими весь закон. Они, слышав Христа, говорящего: Я пришел взыскать заблудших и спасти погибших (ср. Мф 18:11; Лк 19:10), с завистью укоряли Его, и говорили: разве кто из князей уверовал в Него, или из фарисеев (Ин 7:48)? И не хотели же и [ в ] общение принять кающихся. Они и в Храме осуждали корыстолюбцев, а свои считая добродетели, тщеславились.
В то же время, мытарь, слышав [ Христа ] как не имеющий дерзновения, не хотящий и глаза поднять к небу, но бил себя в грудь, чтобы подвинуть душу на покаяние и сердце на умиление, ибо от него исходят злые помыслы, и говорил: Боже, очисти меня грешного и помилуй меня.
Приведенная автором аллегория показывает, к какому результату придут люди с обозначенными в притче устроениями. Здесь мытарь и фарисей выступают в образе конных воинов. Каждый из них запрягает в свою колесницу двух коней и отправляется в путь. Путь — это земная жизнь. Ожидаемый конечный пункт поездки — вечная жизнь. Два коня — внешняя и внутренняя жизнь человека.
В пояснении к аллегории книжник отмечает, что фарисей внешне праведен, исполняет весь закон (именно поэтому колесница названа законной), но внутренне тщеславен, надеется на свои дела и осуждает других, что приведет его в конечном итоге к гибели.
Участь фарисея поясняется двумя ссылками на слова апостола: «Никто от себя не принимает чести, но призванный от Бога» (ср. Евр 5:4); «Не превозносись, пребывая на ветви, [ибо] не ты корень носишь, но корень тебя» (ср. Рим 11:18), которыми автор указывает на то, что подлинные честь и добрые дела без Бога невозможны.
Мытарь же внешне ведет явно грешную жизнь, но внутренне осознает бедственность своего положения. Он осуждает себя, приходит к покаянию, понимает, что не в состоянии лишь своими силами что-то изменить, и смиренно с надеждой обращается к Богу. Словами из Псалтири — «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс 144:18), книжник подчеркивает: такая молитва угодна Богу и приведет ко спасению, то есть жизни вечной.
Фраза «и слово превозмогло дело» вновь акцентирует внимание на том, что все самое главное в вопросе спасения происходит во внутренней жизни человека. Книжник здесь говорит о слове , поскольку от избытка сердца говорят уста (Мф 12:34; Лк 6:45). Хорошим примером будет благоразумный разбойник (Лк 23:39–43), который без внешних дел праведности приобрел спасение, преобразившись внутренне и обратившись со словом ко Христу: «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк 23:42).
Аллегория, по мнению античных риторов, является поэтической, а не риторической фигурой, поэтому в назидательных сочинениях она практически не встречается [Точилина, 2000, 92].
Как отмечает Л. Н. Точилина, ритмическая организованность данной части поучения сформирована на основе лексического и синтаксического параллелизма и антитезы [Точилина, 2000, 92].
Далее представлено заключение гомилии.
Поэтому подражаем, братья, этого мытаря великому доброму смирению, которым Сам Христос, смирившись, спас нас, и всех учит быть смиренными, сознавая свою греховность, говоря: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф 11:29), и ибо всякий возвышающий себя будет смирен, а смиряющий себя возвысится (Лк 14:11), и когда исполните все приказанное вам, говорите: мы негодные рабы, и что должны были сделать, сделали (Лк 17:10), и что Господь гордым противится, смиренным же дает благодать (Притч 3:34; 1 Пет 5:5). Ему же слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.
Здесь автор вновь приводит основные выводы, сформулированные на основе притчи, подкрепляя их цитатами из Священного Писания. Акцент делается на осознании своей греховности, оставлении надежды на дела праведности и на смирении, которые противопоставляются самовозвышению и гордости.
Л. Н. Точилина в этой части гомилии выделила мастерское использование автором парономазии (стилистический прием, предполагающий нарочитое сближение слов, в чем-либо сходных в своем звуковом составе [Жеребило, 2010, 255]) и лексической градации (стилистическая фигура, заключающаяся в последовательном нагнетании или ослаблении сравнений, образов, эпитетов и других выразительных средств художественной речи [Жеребило, 2010, 77]) при подборке цитат из Священного Писания [Точилина, 2000, 93].
Таким образом, гомилия в Неделю о мытаре и фарисее является оригинальным памятником славянской, а возможно, и древнерусской культуры, который читался в назидание верующим за богослужением в соответствующие дни. Она может быть надписана именем свт. Иоанна Златоуста, прп. Феодора Студита, или авторство может быть не указано вовсе.
В поучении с помощью аллегорий раскрывается смысл притчи о мытаре и фарисее для духовной жизни человека. Книжник также показывает взаимосвязь между внешней и внутренней жизнью.
Автор уточняет: необходимо следить за тем, что происходит в сердце, осознать свою греховность, смириться и обращаться с надеждой к Богу, не надеясь на свои дела. Человека этот путь приводит ко спасению, которое является смыслом жизни для каждого христианина.
Гомилия, составленная в первые века христианства на славянских землях, является результатом осмысления книжником притчи о мытаре и фарисее. В XIV–XVI вв., когда триодный Торжественник был в богослужебном употреблении, а затем, в иной редакции, в составе сборника «Златоуст», который был одной из самых читаемых книг в XVI–XVIII вв., она через близкие для людей того времени образы напоминала верующим о главной цели в земной жизни и важности внутреннего устроения по отношению к внешним делам.