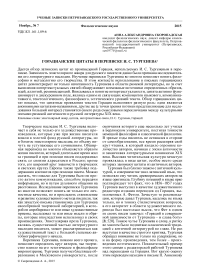Горацианские цитаты в переписке И. С. Тургенева
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (152), 2015 года.
Бесплатный доступ
Дается обзор латинских цитат из произведений Горация, используемых И. С. Тургеневым в переписке. Значимость эпистолярного жанра для русского писателя давно была признана исследователями его литературного наследия. Изучение переписки Тургенева во многом позволяет понять философию и методологию его творчества. В этом контексте использование в письмах горацианских цитат демонстрирует не только начитанность Тургенева в области римской литературы, но за счет выявления интертекстуальных связей обнаруживает возможные источники определенных образов, идей, аллюзий, реминисценций. Вписываясь в понятие интертекстуальности, цитата активно функционирует в дискурсивном поле, являясь одним из связующих компонентов языкового, коммуникативного, текстологического, философского, эстетического уровней текста. Обзор горацианских цитат показал, что цитатные проявления текстов Горация выполняют разную роль: одни являются анонимными цитатами-названиями, другие же (с точки зрения поэтики представляющие для исследования больший интерес) становятся своего рода смысловыми перекличками между культурными эпохами римской античности и русской литературы XIX века.
Эпистолярный жанр, цитата, интертекстовые связи, и. с. тургенев, гораций
Короткий адрес: https://sciup.org/14750987
IDR: 14750987 | УДК: 821.161.1,09-6
Текст научной статьи Горацианские цитаты в переписке И. С. Тургенева
Творческое наследие И. С. Тургенева включает в себя не только его художественные произведения, которые уже при жизни писателя вошли в золотой фонд русской литературы, но и богатое эпистолярное наследие, по объему ничуть не уступающее его сочинениям. Обширная переписка во многом объясняется образом жизни писателя, который длительное время жил за границей и при помощи писем поддерживал связь со своими адресатами в России; кроме того, его широкий круг знакомств в творческих и светских кругах Европы также требовал поддержания контактов при помощи писем. Можно сказать, что письмо для Тургенева было не просто актом коммуникации, способом передачи информации, но и путем духовного общения на расстоянии. Исследование переписки Тургенева во многом позволяет понять не только его личностные качества, но и проследить становление и развитие художественного метода писателя, так как зачастую письма становились для Тургенева своеобразной творческой лабораторией, в которой он апробировал те или иные художественные приемы, исследовал те или иные мысли и образы, которые впоследствии использовал в своих произведениях. Эпистолярная проза Тургенева, являясь существенной частью литературного наследия писателя, может рассматриваться как художественный текст с большой степенью автобиографического начала.
Переписка Тургенева, помимо всего прочего, позволяет определить круг авторов, чье творчество влияло на его эстетическое и философское мировоззрение. Тургенев получил блестящее образование в Московском университете, после
окончания которого еще несколько лет учился в Берлинском университете, постигая тонкости немецкой философии и классической филологии. В зрелые годы писатель не оставался в стороне от самообразования, все время расширяя свой круг чтения, в который входило огромное количество авторов, начиная с эпохи античности и заканчивая литературными новинками ΧΙΧ века. Высокая читательская культура зачастую проявлялась в виде цитат, особое место среди которых занимают цитаты из античных авторов.
Тургенев был близко знаком с античной культурой, в совершенстве знал латинский язык, что позволяло ему читать древнеримских авторов на языке оригинала. Глубину познаний в языке ярко подтверждает тот факт, что в 1856–1857 годах Тургенев выступил в качестве художественного редактора издания переводов од Горация, выполненных А. Фетом. Зачастую те рекомендации, которые давал Тургенев, касались не языка только, но и тонких стилистических вопросов, а его авторитет в области художественного перевода был настолько высок, что Фет в одном из своих писем замечал: «Гораций в совершенной зависимости от Тургенева – и слава богу» [8; 520]. Тонкое чутье Тургенева к слову, к ритму во многом было подпитано классической традицией с античной литературой во главе. Не раз выступая в качестве строгого критика, Тургенев обращал внимание не только на содержание, но и на форму произведения, тем более – произведения поэтического. Показательный пример этого связан с редакторской работой Тургенева над переводами од Горация. Вот какую оценку этим переводам находим в письме П. Анненкову от 2 ноября 1853 г.: «…разбирал присланную мне Фетом первую книгу “Од” Горация, им переведенных. Много славянских слов – много неясных и натянутых стихов, – но вообще – перевод превосходный и останется в литературе»1. Характерно, что своего рода новаторский подход Фета к передаче античной стихотворной формы при помощи более понятного для русского читателя рифмованного стиха горячо приветствуется Тургеневым, для которого было важно в переводе передавать не только содержание, но и форму оригинала. В этом смысле поэтический перевод должен быть строго выдержан не только с точки зрения лексики и грамматики, но и с точки зрения стилистики, передавая не букву только, но и дух произведения. По замечанию А. С. Климентьевой, «Тургенев – редактор, по сути, Тургенев – переводчик, т. е. посредник между автором и читателем. В основном его работа как редактора переводов направлена на стилевую адаптацию. Он правит тексты Фета, не только сообразуясь с собственными художественными предпочтениями, но также ориентируясь на эстетические вкусы современного читателя» [5; 14].
Среди имен античных авторов, встречающихся в письмах Тургенева, можно найти имена Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, Аристотеля, Демосфена, Плутарха, Вергилия, Овидия, Горация, Катулла, Тита Ливия, Саллюстия, Цицерона. В подавляющем большинстве случаев упоминание этих авторов непосредственно связано с их творчеством, которое было хорошо знакомо Тургеневу и на которое он ориентировался как на основополагающее для европейской литературы. Но среди этого списка особое место занимает Гораций, на долю которого выпало наибольшее количество цитат и упоминаний: 13 упоминаний и 11 цитирований. Такое количество могло бы быть объяснено редакторской работой, которую Тургенев проводил над переводами Фета. Однако хронологически цитирование римского автора увеличивается со временем: письма, посвященные переводам Фета, горацианских цитат в себе не содержат. Максимальное количество цитат (3) приходится на ΙΧ том 28-томного собрания сочинений, в который включены письма за период 1871–1872 годов. А в последних трех томах цитаты встречаются по одному или два раза.
Прежде чем приступить к анализу гораци-анских цитат в переписке Тургенева, нужно отметить, что в современном литературоведении существует достаточно обширный круг работ, посвященных исследованию цитаты как важной единицы текста (преимущественно текста художественного). Не вдаваясь глубоко в вопросы текстологии, сошлемся на Ю. М. Лотмана, который, рассуждая о строении художественного текста, усматривает в нем различные смысловые пласты, через которые автор разговаривает с читателем: «В структурном смысловом поле текста вводимый в него внешний текст трансформируется, образуя новое сообщение» [6; 67]. Цитату можно рассматривать как текст, вводимый в текст в фрагментарном виде, и его фрагментарность становится для читателя не только кодом к основному тексту, но и приглашением развернуть цитату в полный текст. Таким образом устанавливается дополнительная коммуникация между автором и читателем: помимо той информации, которую дает основной текст, дается код к дополнительной информации другого текста. Подобные интертекстуальные связи создают объемную смысловую картину, вбирающую в себя множество идей, образов, мотивов, аллюзий и т. д. Использование цитаты на другом языке (в нашем случае – языке древнем, «мертвом») не только вводит нас в другой язык, но и в другую культуру (в нашем случае – античную). Размышляя о семиотическом аспекте анализа античной цитаты, Ю. Н. Варзонин отмечает следующее: «Когда исходят из реальности интертекста, имеют в виду также и возможность движения элемента интертекста “вверх” – к ценностям данной культуры, в ее концептосферу» [3; 167].
Цитата как «чужое слово» может воспроизводиться буквально, с указанием автора цитаты, а может сводиться к цитате в виде названия или темы. Обзорно горацианские цитаты в письмах Тургенева можно представить в виде таблицы, в которую, помимо указания на цитированные произведения, включены и такие параметры, как точность (дословность) цитаты и указание на ее автора.
|
Произведение Горация |
Количество цитирований |
Год написания письма |
Наличие указания автора цитаты |
Точная/ неточная цитата |
|
Эпод ΙΙ |
1 |
1860 |
да |
точная |
|
Ода II, 14 |
1 |
1865 |
да |
точная |
|
Эпод VII |
1 |
1871 |
да |
точная |
|
Ода III, 30 |
2 |
1872 |
нет |
точная |
|
Ars poetica (372–373) |
1 |
1875 |
нет |
неточная |
|
(351–352) |
2 |
1879 |
нет |
точная |
|
Послание Ι, 1 |
2 |
1876, 1877 |
нет |
точная |
|
Ода Ι, 3 |
1 |
1882 |
да |
неточная |
Первая цитата из Горация символически встречается в письме, адресованном А. Фету, от 3 октября 1860 года, которое начинается так: «Beatus ille, amice Fethie – и так далее – см. Ваш перевод Горация» (ПСС в 30. Т. 4. С. 246). Тургенев шутливо обыгрывает строку из II Эпода Горация, которая стала крылатой уже в античной литературе: «Beatus ille, qui procul negotiis2» ( блажен тот, кто вдали от дел – перевод А. А. Скоропадской). В фетовском переводе, который упоминает Тургенев, эта строка выглядит так: «Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол…». Однако цитирование Тургенева, в свойственной ему манере, – неточное. Хорошее знание латыни помогает ему варьировать цитаты, подстраивая их под контекст письма. В рассматриваемом случае Тургенев к словам Горация добавляет свои
«amice Fethie» – «друг Фет», что сразу же нивелирует высокую литературность цитаты и делает ее не просто крылатой, но и современной, индивидуальной, использованной по определенному случаю3.
Вторая цитата из Горация встречается в письме Н. В. Щербаню от 4 мая 1865 года: «Но будь я гнуснее редакторов “Patrie”, если до будущего воскресенья не будет Вам отправлено обещанное предисловие. Dixi. Кстати, у Горация labuntur anni: это на случай будущей цитаты» (ПСС в 30. Т. 6. С. 135). Если быть точными, в этом письме две латинские цитаты. Первая «Dixi» ( я сказал , в смысле – поставил точку, закончил ) является крылатым выражением. И сразу же после этой латинской фразы, которая, видимо, подвела к продолжению «латинской темы» (о чем говорит вводное слово «кстати»), Тургенев обращается к цитате из Горация, отсылающей нас к 14-й оде из II книги од Горация4:
Eheu, fugaces, Posthume, Posthume, Labuntur anni...
( Увы, Постум, Постум! скользят быстротечные годы – перевод А. А. Скоропадской.)
Выделенное Тургеневым слово «labuntur», скорее всего, говорит о том, что Тургенев исправляет ошибку в латинском тексте, допущенную в предыдущем письме Н. Щербанем, предостерегая от ошибочного написания цитаты в следующий раз.
Как видно из предлагаемой таблицы, наиболее часто цитаты из Горация встречаются в письмах Тургенева 70-х годов. Так, с волнением реагируя на начавшиеся в Париже беспорядки, возникшие в связи с провозглашением Парижской коммуны и началом гражданской войны, Тургенев пишет 13 марта 1871 года Полине Виардо: «Милая, любимая m-me Виардо. Не могу не сказать вам, что эти ужасные известия из Парижа захватывают меня целиком и повергают в отчаяние. Это совсем точно императорский преторианский Рим, погибающий от анархии, и крик Горация: “Quo, quo, sclesti5, ruitis?” – беспрестанно звенит у меня в ушах» (ПСС в 28. Т. 9. С. 49). Знаковым является обращение Тургенева к Горацию, испытавшему на себе весь ужас гражданских войн, в которые длительное время был погружен Рим. Эпод VII, начало которого цитирует Тургенев, получил название «К римлянам»: Гораций обращается к согражданам, призывая их опомниться и прекратить междоусобицу, которая приведет только к падению самого Рима. Цепочка риторических вопросов стилистически приближает эпод к речам римских ораторов:
Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris aptantur enses conditi?
(Куда, куда, злодеи, вы рванулись так, мечи из ножен выхватив? – перевод Г. М. Севера.)
«Мысль поэта предельно ясна: не становясь ни на чью сторону, он проклинает братоубийственные войны сами по себе» [2; 234]. Тургенев видит яркую историческую параллель, когда гражданские войны Рима и современной ему Франции происходят по одной и той же кровавой модели. Поэтому обращение Горация двухтысячелетней давности к согражданам рефреном звучит в сознании русского писателя XIX века.
В письмах 1872 года дважды встречается обращение к знаменитой оде Горация III, 30, известной под заглавием «Памятник». Тургенев использует ее латинское начало в письмах, одно из которых адресовано А. Фету (от 29 марта 1872 года), а другое – П. В. Анненкову (от 5 октября 1872 года).
А. Фету Тургенев пишет следующее: «Ну а теперь, так как Вы в своем “Exegi monumentum” объективно отнеслись к поэту Фету – то позвольте и мне сделать то же» (ПСС в 28. Т. 9. С. 255). Фет как переводчик Горация, естественно, прекрасно знал не только латинский текст гораци-анской оды, но и ее многочисленные переводы и интерпретации. Зрелый поэт, видимо, примерил на себя позицию римского автора, написавшего: Exegi monumentum – я создал памятник . А Тургенев ему в этом подыграл, добавив к фетовскому «памятнику» несколько объективных дополнений.
В постскриптуме к письму П. Анненкову Тургенев опять вспоминает строку из Горация: «Итак, мой бывший начальник по Министерству внутренних дел В. И. Даль приказал долго жить! Он мог оставить за собою след: “Толковый словарь” – и мог сказать: “Exegi monumentum”» (Там же. С. 349).
Оба примера обращения к горацианской оде анонимны (не указывается, что это строка из Горация), но это во многом объясняется хрестоматийным характером словосочетания: ода Горация «К Мельпомене» является, пожалуй, самой известной, самой переводимой и самой интерпретируемой. Поэтому ее индивидуальная, авторская образность со временем превратилась в анонимную афористичность, понятную человеку, мало-мальски знакомому с античной традицией.
Ярким доказательством эстетического влияния Горация на Тургенева является ряд цитат в письмах русского писателя из горацианской «Науки поэзии». Так, критически отзываясь о своих стихах, Тургенев в письме С. А. Венгерову от 25 мая 1875 года пишет следующее: «Моя нелюбовь к моим стихам объясняется уже старинным:
«Mediocribus esse poеtis
Non di, non homines» – и т. д.» (ПСС в 28. Т. 11. С. 86).
Тургенев неточно цитирует 372–373 строки из «Ars poetica»: «…mediocribus esse poetis non homines, non di, non concessere columnae (быть посред- ственными поэтам не позволяют ни люди, ни боги, ни колонны – перевод А. А. Скоропадской).
Анонимность латинской цитаты и ее неточность говорят о том, что к этим строкам Тургенев относится как к своего рода афоризму, который должен быть знаком образованному человеку.
Обращение к «Ars poetica» находим в письме Г. Флоберу от 13 ноября 1879 года. Делая некоторые критические замечания относительно его романа «Воспитание чувств», Тургенев пишет: «Но помните классический стих: “Ubi plura nitent in carmine…” и т. д.» (ПСС в 28. Т. 12. Кн. 2. С. 372). Незадолго до этого в письме М. Стасюлевичу от 5 ноября Тургенев, делая критический разбор стихотворения Н. Минского, помещенного в ноябрьском номере «Вестника Европы», использует эту цитату в более развернутом виде: «Но все же – “ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendar maculis” – и я от души приветствую этот новый симпатический талант – и желаю ему всяческого преуспеяния» (ПСС в 28. Т. 12. Кн. 2. С. 171). Контекст использования этой цитаты связан с критической деятельностью Тургенева, а обращение к ней во многом помогает понять характер писателя: указывая на обнаруженные им недостатки и неточности в тексте, он философски смягчает свои замечания цитатой из Горация, которую можно перевести так: если многое сверкает в стихе, я не буду оскорблен немногими пятнами («Ars poetica» 351–352, перевод А. А. Скоропадской). Несмотря на это смягчение и Гораций, и Тургенев в своих наставлениях начинающим авторам были достаточно требовательны и допускали наличие «пятен» в произведении, только если они компенсировались высокими художественными достоинствами других его составляющих.
Еще одним не единожды цитируемым гораци-анским текстом является послание «К Меценату» («Ad Maecenatem»), которое открывает собой первую книгу посланий. Так, в письме Н. П. Вагнеру от 1 ноября 1876 года находим: «Литературная моя карьера близится к концу; я не уверен в том, окончу ли я даже те немногие работы, которые я возложил на себя и которых от меня ожидают; всякое новое предприятие для меня немыслимо. И потому покорно прошу не пенять на меня, памятуя латинское “solve senectutem” – и принять уверение в искреннем уважении, с которым я имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою» (ПСС в 28. Т. 11. С. 345). Спустя чуть более двух месяцев Тургенев вновь обращается к этим латинским стихам, но уже в письме П. В. Анненкову (10 января 1877): «Делать нечего: надо, вспомнив архиепископа Гранадского да латинский стих “Solve senectutem equum” и т. д., отложить на будущее время всякую литературную преоккупацию – и подыскать себе какое-нибудь письменное занятие, которое наполнило бы оставшийся досуг уже довольно подвинувшейся жизни» (ПСС в 28 т. Т. 12. Кн. 1. С. 61). Оба письма проникнуты настроением грусти и усталости от писательского труда. Это настроение находит отклик в горацианских строках послания, в котором римский поэт, обращаясь к своему другу и покровителю Меценату, отказывается от поэтической деятельности, ссылаясь на почтенный возраст, усталость и связанную с этим тягу к философствованию, а не писанию лирических стихов. Необходимо отметить, что горацианские строки, которые можно перевести как отпусти вовремя здорового стареющего коня (перевод А. А. Скоропадской) непосредственно в послании Горация являются не авторской, а прямой речью: est mihi purgatam crebro qui personet aurem: ‘solve senescentem mature sanus equum’.
( Часто мне кто-то кричит в мои еще чуткие уши: «Вовремя, если умен, ты коня выпрягай, что стареет ...» – перевод Н. С. Гинцбург.)
«Solve senectutem...», оформленное в виде прямой речи, Гораций преподносит как мудрость, пришедшую извне. Знаменательно, что Тургенев, не указывая на принадлежность цитируемой латинской строки Горацию, сохраняет ее характер пословицы («памятуя латинское», «вспомнив… латинский стих»), таким образом как бы сохраняя заданный римским поэтом афористичный характер этого выражения.
Попытка Горация отказаться от поэзии в пользу практической философии не вполне удалась: напомним, что «К Меценату» – первое послание, открывающее собой книгу, за которой последует еще одна, включающая в себя довольно обширную «Науку поэзии». По замечанию М. фон Альбрехта, «так парадоксально отказ от литературы хронологически совпал с новой ступенью, достигнутой в этой области. <…> Экзистенциальное содержание формулируется независимо и тем самым утверждается в своей действительности» [1; 799]. Зеркально складывается ситуация и у Тургенева: обращаясь к Горацию, чтобы подтвердить свое намерение уйти из литературы, писатель приступает к написанию «Стихотворений в прозе», которые станут самым лиричным и самым философским его литературным созданием.
Исследуя обращения Тургенева к Тютчеву, Фету и Пушкину, Ю. Б. Орлицкий отмечает, что «Тютчев, как и Пушкин, выступает в письмах Тургенева, прежде всего, в качестве непререкаемого художественного авторитета; с помощью стихотворных цитат из произведений именно двух этих авторов он нередко описывает и свое собственное состояние или состояние окружающего мира» [7; 73]. Со своей стороны хотим добавить, что цитирование античных авторов (безусловно, тоже попадающих в разряд авторитетов для русского писателя) позволяет Тургеневу внести в свои рассуждения временной и культурный контекст. Стихотворные строки Горация в эпистолярии русского писателя афористически концентрируют в себе мысли о жизни, творчестве, искусстве и становятся неотъемлемой частью диалога культур, «где личность проявляется в ее многогранности и целостности, определяется круг и стиль общения, способы рефлексии, отражающие особенности националь- приятия социокультурного мира и включенность ной ментальности, а также универсальность вос- в процессы его развития» [4; 142].
* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
О Постум! Постум! Льются, скользят года!
Какой молитвой мы отдалим приход
Список литературы Горацианские цитаты в переписке И. С. Тургенева
- Альбрехт Михаэль фон. История римской литературы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. Т. 2. С. 708-1390.
- Борухович В. Г. Квинт Гораций Флакк. Поэзия и время. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. 376 с.
- Варзонин Ю. Н. Семиотический аспект анализа античной цитаты в тексте и диалоге//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 164-168.
- Карантаева И. Л. Историко-культурные основания и содержание концепта «русский европеец» (на материалах биографии и эпистолярия И. С. Тургенева): Автореф. дисс.. д-ра филол. наук. Кострома, 2010. 169 с.
- Климентьева А. С. И. С. Тургенев -переводчик: Автореферат дисс.. канд. филол. наук. Томск, 2007. 22 с.
- Лотман Ю. М. Текст в тексте//Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства/Предисл. С. М. Даниэля, Сост. Р. Г. Григорьева. СПб.: Академический проект, 2002. 543 с.
- Орлицкий Ю. Б. Стихи русских поэтов в жизни Тургенева (на материале писем писателя)//Спасский вестник. 2007. № 14. С. 72-82.
- Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М.: Худож. лит-ра, 1987. Т. 1. 558 с.