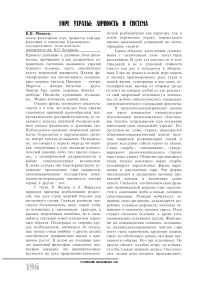Горе утраты: личность и система
Автор: Минеев В.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720364
IDR: 14720364
Текст статьи Горе утраты: личность и система
Кризисы душевные и духовные, боль физическая, пребывание в так называемом пограничном состоянии, вызванном утратой близкого человека, часто способствуют взлету творческой активности. Платон философствовал под впечатлением, оставленным смертью учителя, Цицерон — дочери, Марсель — матери, Августин — друга. Эпикур был лишен здоровья, Эпиктет — свободы. Писатели, художники, музыканты... Можно вспомнить тысячи имен.
Однако факты неумолимо свидетельствуют и о том, что нередко боль утраты становится причиной разнообразных психосоматических расстройств (вплоть до летального исхода), причиной беспрецедентного упадка физических и душевных сил. Наблюдаются снижение творческой активности, безразличие к окружающим, тревога, потеря чувства реальности. По-видимо-му, это говорит в первую очередь об ошибках, допущенных в ходе оказания психологической помощи, либо, что гораздо серьезнее, о специфической направленности в работе социокультурных механизмов. В одних случаях они благоприятствуют успешному преодолению горя (например, санкционированная государством поминально-мемориальная активность матери героя), в других —нет.
Г. Оуэн, Р. Фултон и Э. Маркузен приводят примеры реабилитации родителей, чьи дети стали жертвой болезни или несчастного случая. Сначала родители чувствуют беспомощность, вину, порой злобу по отношению к «виновникам» трагедии, к врачам, сверстникам погибших, но в дальнейшем ситуация может измениться коренным образом. Поддержка со стороны друзей, необходимость заботиться об остальных членах семьи (вообще о других людях) способствуют возвращению жизни в привычное русло1. В целом же усилиями многих поколений философов, социологов, психиатров показано, что принципиальные трудности на пути нравственно-психологи- ческой реабилитации как взрослых, так и детей, перенесших утрату, порождаются именно изначальной установкой на слепое отрицание смерти2.
Таким образом, последствия столкновения с «неизбежным злом» могут быть различными. И дело тут конечно, не в дозе страданий и не в душевной стойкости (она-то как раз и нуждается в объяснении). Едва ли можно в полной мере понять и оценить противоречивую роль утрат в нашей жизни, усматривая в них лишь неспецифические вызовы со стороны среды (в ответ на которые любой из нас реализует свой творческий потенциал) и отвлекаясь от особого онтологического, социальноантропологического содержания феномена.
В психолого-психиатрических науках под горем понимается социокультурно обусловленное всепоглощающее болезненное чувство, испытываемое при осознании понесенной (или ожидаемой) утраты3. Посредством же слова «утрата» фиксируется объективно-социологический аспект явления, например реорганизация связей в группе вследствие гибели одного из членов. Слова «скорбь», «оплакивание», «траур» выражают зримо-материальную сторону горя (плач, танец). Общество предписывает своим членам некоторую норму скорби, культивирует определенные формы выражения и преодоления горя. Эти формы предполагают и дисциплину внешних проявлений чувства, и воспитание самих чувств. Считается, что биологическая функция эмоциональной реакции горя заключается в адаптации особи к новым условиям существования. Реакция мобилизует защитные силы организма, катализирует выработку условных рефлексов, имеющих отношение к опасности, снимает стресс. Плач служит сигналом бедствия, а кроме того, эмоционально сплачивает группу. Факторами же возникновения сложного, осознанного, индивидуализированного чувства горя могут стать одиночество, крушение планов, страх за собственную жизнь, сам факт внезапности события. Но горе излечивает. Не просто стихает, подобно ветру, но избывает себя, толкая личность вперед. Оно помогает людям ясно осознать произошедшее, мобилизовать силы, сплотиться. Способствует духовному росту, глубокому, неформальному усвоению нравственных ценностей. Учит состраданию, пробуждает рефлексию, укрепляет готовность действовать в соответствии с убеждениями, превозмогая страх и порождаемую им склонность к конформизму. С одной стороны, утраты усиливают любовь к жизни, учат ценить отпущенное время, с другой —убеждают нас в суетности существования, позволяют подготовиться к концу собственному.
Как и любая другая сторона социального бытия, горевально-поминальная практика оказывается полем напряженного противоборства. Индивид, переживающий утрату и так или иначе испытывающий давление со стороны социальных институтов (церкви, государства, семьи), стоит перед необходимостью решения комплекса взаимосвязанных задач:
-
— свыкнуться с реальностью произошедшего, переплавить знание о случившемся в органическую часть своей обновленной личности, примириться с печальным фактом и умом, и сердцем (личностноэкзистенциальная задача);
-
— подняться на более высокую ступень понимания природной и социальной реальности (когнитивная задача);
—укрепить волю, воспитать в себе готовность действовать в соответствии с убеждениями, превозмочь страх и склонность к конформизму, нередко культивируемые институтами власти (морально-этическая задача);
—переключить внимание с умершего, с факта его смерти на решение новых задач, оптимально перераспределить энергию, направить ее в созидательное русло (эмоционально-психологическая задача);
—восстановить прерванную связь с миром, приспособиться к новым условиям существования, найти компромисс с окружающими, ясно осознать собственные интересы, объективно оценить свои возможности, использовать уход близкого в целях социального продвижения (социальная задача).
Что же касается интересов общества в целом, то они не всегда совпадают с интересами индивида. В ситуации утраты активность социальной системы направлена на решение несколько иных задач:
—консолидировать группу, восстановить разорванные связи, использовать уход ее члена для перестройки социальной структуры, форсировать или, наоборот, замедлить те или иные процессы, направить коллективную энергию в нужное русло (макросоциологические задачи);
— навязать индивиду приемлемую для системы форму примирения с реальностью, сломив волю к сопротивлению природной и социальной необходимости, к сопротивлению власти; укрепить готовность действовать на благо группы, политического режима, традиции (микросо-циологические, идеологические задачи).
Центральным элементом постмортальных практик в социуме, безусловно, остается похоронно-погребальный ритуал. Дифференцируем его важнейшие функции:
-
1) публичное подтверждение факта состоявшейся смерти, признание факта членами группы, дающее старт постмортальной активности общества (распоряжение имуществом, именем покойного) и обеспечивающее ей морально-психологическую поддержку;
-
2) выражение эмоциональных реакций на событие (горе, страх, вина, гнев, радость) и осуществление контроля над ними, снятие стресса в социокультурно приемлемой форме (участие в похоронной процессии вместо участия в акциях мести и т. п.);
-
3) пространственная и темпоральная организация постмортального процесса: локализация акций бурного выражения чувства и ограничение их сроков;
-
4) структурная реорганизация и реинтеграция группы: восстановление порядка в группе и уточнение места каждого ее члена, сплочение перед лицом внешних и внутренних угроз, исполнение обязательств (помощь потерпевшим, ношение траура как знаковое проявление самоограничения в поведении), интеграция малой группы (семьи) в состав большой группы (нации);
-
5) этнополитическая, религиозно-конфессиональная, сословно-классовая самоидентификация группы и в то же время сигнал внешнему (возможно, враждебному) миру о продолжающейся борьбе;
-
6) собственно утилизация останков, получающая в рамках похоронно-погре-
- бального ритуала культурную форму выражения;
-
7) ознакомление детей с реалией смертности, образовательно-воспитательное воздействие на подрастающее поколение, обещание почтительного отношения к умершим и в будущем;
-
8) окончательное признание ценности умершего для группы (при жизни, возможно, с нею конфликтовавшего), подтверждение присоединения ушедшего к обществу мертвых и одновременно возвращение его в общество живых в новом качестве и с новыми функциями (эталон, покровитель и т. п.);
-
9) специфическое выражение разнообразных ценностей общества, множество частных функций (коммуникативная, символико-семиотическая, эстетическая).
Нетрудно заметить, что похоронно-погребальный ритуал, предотвращающий возникновение непредсказуемых ситуаций, направлен на достижение максимально возможного контроля над горевально-поми-нальной активностью.
В современном обществе традиционная религиозно-политическая ритуализация процесса дополняется его медикализацией. Горевать помогают чаще психиатры, чем психологи или философы. Как и похоронно-погребальный ритуал, ныне популярные теории «преодоления» направлены на стандартизацию поведения личности в ситуации утраты, навязывают человеку (и обществу) определенный стереотип отношения к смерти. Так, Дж. Стэфэнсон артикулирует три обязательные фазы горя: 1) реакция; 2) психическая дезорганизация и реорганизация; 3) выздоровление4. Р. Кавано дробит процесс на семь стадий: 1) отрицание реальности произошедшего («Этого не может быть!»); 2) растерянность; 3) переменчивые чувства (беспомощность, боль, гнев); 4) ощущение вины («Я должна была это предвидеть!»); 5) чувство одиночества; 6) чувство облегчения («Его мучения закончились!»), освобождение от груза обязательств; 7) пробуждение интереса к жизни5. Ту же самую направленность стадий подтверждают и другие авторы, например Б. Рафаэл6.
В действительности примирение с утратой (подобно примирению умирающего с неизбежностью собственного конца) представляет собой не жесткую последователь- ность стадий, а неповторимый ансамбль разнообразных переживаний. Хотя теории стадий претендуют на статус универсально-биологических, их авторы не в силах отрицать очевидных фактов социальной обусловленности переживаний. От социокультурных факторов зависят все основные параметры реакции: продолжительность, интенсивность, адекватность, динамичность. Если конец отвечает принятому в обществе идеалу естественной смерти, исполнен смысла, отличается безболезненностью, наконец просто предсказуемостью, то его преодоление происходит быстрее и эффективнее, чем в тех случаях, когда культура, религия, здравый смысл не предоставляют оснований для оправдания произошедшего.
С одной стороны, горе является состоянием наибольшей уязвимости личности, состоянием благоприятным для внедрения мифа в сознание. С другой стороны, именно тяжелая утрата способна дать толчок процессам глубинной перестройки личности, укрепить волю, разрушить иллюзии, положить начало расколдовыванию мира и уяснению собственного места в нем. Человек, прошедший через горнило скорби, уже не тот, что был прежде. Теперь он иначе воспринимает, во-первых, умершего (его личность, ценность, судьбу); во-вторых, группу (семью, сослуживцев, окружающих, нацию, род людской); в-третьих, культурные ценности, обычаи и социальные институты; в-четвертых, мир как природно-космическое целое (окружающую среду, звездное небо, законы природы, человеческий организм и жизнь других существ); в-пятых, себя самого (а именно, свою связь с умершим, свое место в обществе и мире, свое «подлинное Я», прошлое и перспективу). Важно, чтобы в обновленном микрокосме осталось меньше места для мифа и необоснованных надежд, а значит, для страха и отчаяния.
Образ умершего обретает законченность (которой нельзя было ожидать при жизни), выносится за скобки повседневного быта и может использоваться в качестве фундамента перестраивающейся системы ценностей. Так, нередко образ особы, при жизни бывшей нерадивой матерью, обрастает легендами и становится маяком при выборе жизненного пути. Стараясь быть похожей на якобы достойную родительницу, дочь ведет здоровый образ жизни, тщательно соблюдает нормы права и морали, овладевает профессией, достигает успехов и признания со стороны общества.
Подобное воздействие образа покойного на живых едва ли правильно объяснять тривиальным заблуждением, случайной связью идеала с конкретной личностью. Скорее, происходит продумывание не использованных покойным возможностей, выявление того, что —на самом деле — было существенно важным (но осталось скрытым за рутиной быта). Пьяница мать действительно могла направить своих детей верным путем. Она это и делает, заняв надлежащее место в символическом мире осиротевших наследников. Конкретно-собирательный образ матери функционирует в данном случае как знак, символ, аллегория, но не обязательно как миф.
О мифологизации образа умерших можно говорить лишь в том случае, если его начальное содержание вытесняется коннотативными наслоениями (например, начинает мыслиться в связи с «верностью законам предков» и т. п.), т. е. если образ сакрализу-ется, политизируется, ставится на службу отчужденным социальным силам и в конце концов начинает препятствовать свободному, рациональному выбору личности.
Утраты помогают каждому увидеть свое Я, оценить прошлое и перспективу. Прежде всего горе способствует дистанцированию от ложного идеала максимально продолжительного пребывания на земле. Бессмысленность гибели сверстника часто открывает подростку правду о его собственной жизни, заставляет соразмерить планы с реальностью, заняться исправлением ошибок. Смерть другого всегда функциональна в отношении выжившего. Она предупреждает об опасности, повышает степень самостоятельности, вовлекает в интенсивное общение.
В то же время утрата выявляет работу всех социальных институтов, функционирование культурных символов, механизмы воспроизводства социума. Похороны — это ритуал подчинения системе, но также и место, где детям впервые в полный рост открывается лицемерие взрослых, где обнаруживается земная, весьма прозаическая сущность священных обрядов. Социальные институты бессильны защитить гражданина от болезней, от рук преступников и от безысходности, толкающей на самоубийство. Казалось бы, со смертью «главного» человека мир должен был бы рухнуть. Но все идет своим чередом. Некоторые выигрывают от случившегося. Быстро делится наследство. Замещается рабочая вакансия. Мало кто вспоминает об ушедшем через неделю после проводов.
Увы, лишь смерть близкого дает шанс постичь несоизмеримость бытия любого из нас с бытием социума в целом, воочию увидеть чудовищный контраст между моим восприятием мира и картиной мира объективной, провести грань между идеологической мишурой и незыблемыми материальными основами коллективной безопасности (система жертвует кем угодно).
Смерть является не только внешним фактором, но и внутренним условием социального бытия. История складывается из актов замещения непрерывно уходящих индивидов. Восстановление нарушенной социальной целостности определяется противоборством тенденции к воспроизводству прежнего состояния и тенденции к преобразованию, а значит, сопряжено с конфликтом интересов. Уход человека выступает, с одной стороны, фактором поддержания порядка, с другой же — фактором его изменения, условием истории.
Список литературы Горе утраты: личность и система
- Death and Identity. 3rd ed./Ed. by R. Fulton & R. Bendiksen. Philadelphia, PA, 1994. P. 226 -228
- Scheler M. Tod und Fortleben//Gesammelte Werke. Bd. 10. Schriften aus dem Nachla? Bd. 1. Zur Ethik und Erkenntnislehre. Bern, 1957
- Kavanaugh R. E. Facing Death. Los-Angeles, 1972
- Raphael B. When Disaster Strikes: How Individuals And Communities Cope with Catastrophe. N.Y., 1986