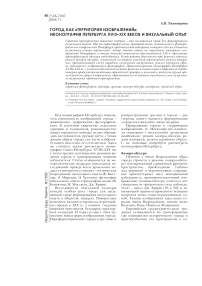Город как "территория изображений": иконография Петербурга XVIII-XIX веков и визуальный опыт
Автор: Тихомирова Анна Викторовна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 2 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Городское пространство общества модерна - это насыщенная среда для формирования визуального опыта. Обилие картографических, гравировальных, живописных и фотографических изображений Петербурга представляют обширный материал для исследования визуального опыта горожанина. Автор ставит задачу на совокупном материале изображений Петербурга, а также технико-оптических приспособлений XIX в. проследить трансформацию позиции наблюдателя. В ходе работы обозначены три режима видения: режим камеры-обскуры, основанный на теории линейной перспективы; режим панорамы, предполагающий смену парадигм визуального восприятия; режим серийного образа, связанный с изобретением фотографии. Проанализирована иконография Петербурга XVIII-XIX вв. с учетом особенностей каждого режима и выявлен ряд изображений города, которые продолжают тенденции европейской гравюры и живописи, выделена группа промежуточных форм изображений, образовавшаяся вследствие наложения схем визуального восприятия городского пространства.
Городская фотография, гравюра, зрелище, камера-обскура, панорама, серийный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/140296442
IDR: 140296442 | УДК: 7.067 | DOI: 10.53115/19975996_2022_02_060-066
Текст научной статьи Город как "территория изображений": иконография Петербурга XVIII-XIX веков и визуальный опыт
Общество. Среда. Развитие № 2’2022
Под иконографией Петербурга понимается совокупность изображений города – живописных, графических, фотографических. К изучению творчества отдельных граверов и художников, разновидностям жанра городского пейзажа не раз обращались исследователи, прежде всего, с точки зрения образа города как части изобразительного искусства, его стилистики. Здесь же ставится задача рассмотреть иконографию Санкт-Петербурга XVIII–XIX вв. с точки зрения соотношения режимов видения города и трансформации позиции наблюдателя. Статья основывается на методологических подходах визуальных исследований, прежде всего, археологии медиа с ее интересом к генезису «технических посредников» визуального опыта (Ф. Китт-лер, Э. Маркман, Э. Хухтамо); философии визуального опыта и философии медиа (В. Беньямин, М. Маклюэн, Дж. Крери).
Исследователи визуальной культуры отводят особую роль городу как насыщенной среде формирования визуального опыта в обществе модерна. Поворотным моментом являются процессы перестройки городов в XIX в., а именно: создание широких проспектов, бульваров, просторных площадей. И параллельно с этим появление новых форм изображения города. Переформатирование города в зрелище и распространение зрелищ в городе – две стороны одного процесса формирования «городского видения» эпохи модерна.
Превращение города в «территорию изображений» (С. Маккуайр) исследователи связывают с несколькими «режимами видениями»: режим камеры-обскура, режим панорамы, режим серийного образа. С их помощью попробуем рассмотреть иконографию Петербурга.
Камера-обскура
Начиная с эпохи Возрождения образ города строится в режиме камеры-обску-ра: изолированный единичный фрагмент пространства; преобладание глубины над шириной и перспективное сокращение архитектурных масс; неподвижный наблюдатель, противопоставленный изображению (камера-обскура отделяла акт смотрения от «физического тела наблюдателя» – писал Дж. Крери) [10, с. 60]; и занимающий привилегированную позицию напротив точки схода перспективных линий. Таковы изображения идеальных городов эпохи Возрождения, многие виды Венеции, Рима, Неаполя, Флоренции.
Европейская градостроительная традиция основывается на трансформации уже имеющегося исторического города и приспособлении его пространства к со- временным нуждам, потребностям и визуальным практикам. Яркими примерами работы с историко-культурной тканью города являются перестройки Парижа, Вены, Берлина, Барселоны, Афин, Москвы в XVIII–XIX вв. Петербург же с самого начала создавался как регулярный город, город-зрелище, с широкими проспектами, архитектурными ансамблями, создающими единое визуальное пространство. Новый проект был свободен от средневековых напластований городской мифологии и топонимики. Ю.М. Лотман, взяв за основу классификации модель взаимодействия с природой, выделяет два типа городов: концентрические и эксцентрические. В первом случае «город выступает посредником между землей и небом», и располагается на горе или возвышенности. Такова, к примеру, Москва, с ее радиально-кольцевой застройкой, что отчетливо видно на карте И.Ф. Мичурина 1739 г. Во втором случае, «эксцентрический город расположен на “краю” культурного пространства: на берегу моря, в устье реки» [11, с. 31]. Здесь мы сталкиваемся с противостоянием города природе, мотивами борьбы со стихией и подчинения ее разуму. В случае Петербурга как яркого примера эксцентрического города вокруг него строится особая «эсхатологическая» городская мифология, основой для которой служат постоянные наводнения, прогнозирование гибели и обреченности.
Первоначальная ориентация Петербурга на реки и каналы как главные магистрали трансформировалась с прокладыванием «Невской першпективы». Приоритетным становится строительство зданий по красной линии улицы, в ущерб традиционной усадебной застройке. Прямолинейный Невский проспект становится главным прогулочным местом, а здания организуют особое театрализованное пространство. Ю.М. Лотман отмечал зрелищность пространства Петербурга: «Уже природа петербургской архитектуры – уникальная выдержанность огромных ансамблей, не распадающихся, как в городах с длительной историей, на участки разновременной застройки, создает ощущение декорации» [11, с. 39].
Значительную часть иконографической традиции города составляют карты и планы. Карты как вид города появляются в эпоху Ренессанса, один из первых таких примеров «Вид Венеции» Я. Барбаро (XVI в.). Она предполагает не точку зрения наблюдателя, а объективность, от наблюдателя независящую. Д. Вудворд отмечает, что вероятно, картографическая проекция XV в. сыграла решающую роль в формировании новых представлений о том, как может быть упорядочено живописное пространство [25, с. 84].
Картографическое наследие Петербурга 1700-х гг. составляют карты и планы, в которых намечаются тенденции к демонстрации регулярного, мощного города, с надежными морскими границами, которую воплощают генеральные планы и «парадные» карты, а также к приукрашиванию реального города, которое выражается в изображении строящихся зданий уже законченными. Наиболее ярко мотив «воображаемого города» выражен в гравюре М.И. Махаева «Монастырь Александра Невского» 1747 г., о чем подробно пишет М.А. Алексеева [2, с. 65–66] и «Плане столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов». С.В. Семенцов отмечает, что автор плана совмещает уже существующие кварталы Литейной части с планируемой застройкой, возведение которой находилось или на начальном этапе, или вовсе не началось [16, с. 364]. «План столичного города Санкт-Петербурга» в значительной степени уникален для русской картографии того времени1, поскольку она пытается примирить в себе две тенденции изображения города XVIII в.: объективный образ карты и аксонометрические виды главных городских видов в режиме камеры-обскуры.
Примечателен аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг. П.А. де Сент-Илера. Стоит отметить, что это один из немногих проектов, который был призван зафиксировать реальный облик города, инвентаризируя петербургское пространство, благодаря точности и достоверности фиксации каждого городского строения в совокупности с картографическим изображением территории города [3, с. 13; 24, с. 167]. В аксонометрической проекции города отсутствует перспективное сокращение изображения, как, например, в живописи, и, как следствие, отсутствует линия горизонта и, соответственно, позиция наблюдателя размывается.
Наравне с картографией режим камеры-обскуры воплощает видовая гравюра. Европейская традиция изображения «долгого вида» города выражалась в запечатлении протяженного водного пространства, по берегам которого располагаются
Общество
городские постройки, например, гравюры Лондона XVI–XVII вв. [22]. Первые гравюры Санкт-Петербурга создавались преимущественно голландцами (А. Шхонебек, П. Пикарт, О. Эллигер) и выполняли задачу картографирования водных просторов и морских военных сражений.
Петровская гравюра XVIII в. должна была поддерживать социальный миф о новой необычной европейкой столице, построенной на пустом месте, поэтому «в гравюрах Зубова Петербург предстает, прежде всего, как город победоносных триумфов» [6, с. 9]. Например, «Панорама С.-Петербурга» А.Ф. Зубова, где мастер демонстрирует торжественный характер молодого города, а также «вводит <…> изображение протяженного пространства и движение» [1]. Здесь трудно определить единый центр, точку схода параллельных линий, за счет использования в одном изображении различных точек зрения [2, с. 54], что дает зрителю некоторую свободу перемещения взгляда в запечатленном пространстве.
В Петербурге в 1840-х гг., как отмечает А. Новик, особую популярность и круглогодичную доступность имели публичные кабинеты камеры-обскуры. Один из таких «плавучих кабинетов» принадлежал Р.А. Броссу и размещался на Неве возле Исаакиевского моста. К тому же в ясную погоду, к огромному удивлению петербуржцев, среди проецируемых на экран камеры-обскуры людей, они могли увидеть своих знакомых [15, с. 113–114].
Таким, образом, режим камеры-обскуры является важным, но не единственным форматом раннего образа Санкт-Петербурга. Наряду с ним функционируют карта и аксонометрический план как виды города, в которых позиция наблюдателя не так однозначна. Ряд гравированных видов города обнаруживают тенденцию к пано- рамности.
Общество. Среда. Развитие № 2’2022
Панорама
Панорама – особый вид зрелища2, а панорамный режим видения предполага- ет почти иммерсивный опыт – иллюзию присутствия в реальном пространстве; иллюзию движущегося образа – движение зрителя по специальной площадке, движение взгляда по поверхности картины; преобладание шири над глубиной, эффект отсутствия границ, бесконечность картины; равноправие точек зрения – любое положение зрителя и любой участок картины равноправны. Зритель, он же наблюдатель, панорамы лишен автономии – он встроен в механизм демонстрации панорамы. Слово «панорама» – неологизм, сочетание греческих корней «пан-» (все) и «-орамы» (вид). Оно было придумано между 1787 и 1791 гг. как название нового типа зрелища: вначале по-французски view-at-a-glance, затем на греческий манер – французский язык начал терять авторитет вследствие завоевательных войн Наполеона, в то время как греческий, напротив, становился все более популярным [23, с. 4].
М. Ямпольский отмечает, что в панораме и диораме живопись превращается в зрелище театрализованного типа. Если живопись и прежде «часто ориентировалась на театральные коды в трактовке пространства, выразительных поз персонажей, мимики и т. д.» [20, с. 47], то теперь происходит ее перевоплощение, а наблюдатель приобретает наряду с едва заметными деталями «колоссальный пространственный охват» [20, с. 48].
Несмотря на многообразие панорамных проектов, очень распространенным сюжетом оставалось «воображаемое путешествие» в другие города или экзотические станы [13, с. 281]. Заметим, что распространение панорамы приходится на канун эпохи широкого распространения туризма (ее отсчитывают от середины XIX в.). Как писала Е.А. Скворцова о Дж. А. Аткинсоне, именно панораме с ее условностью при помощи круговой композиции удавалось «создать вид, который дал бы возможность мысленно очутиться в другом городе» [17, с. 209].
Панорамы-зрелища создавали ощущение «города в городе». Первой панорамой был «Вид Эдинбурга» Р. Бартона, показанный в Эдинбурге в 1787 году. Да и в дальнейшем такие сочетания пользовались большой популярностью. Составляющая такого визуального опыта – удвоение образа (как и в плавучей камере-обскуре на набережной Невы; но масштаб несопоставим). Горожане могли прогуливаться по проспектам, паркам и набережным города, а потом смотреть зрелище города в панораме. Первые панорамы Рима, Бер- лина и Риги в Петербурге демонстрирует И.Ф. Тилькер в 1803 году [23]. Работая в России в 1824–1825 гг. Тилькер пишет «панораму Петербурга», которая создана в популярном в жанре того времени пейзажа-катастрофы и посвящена сильнейшему наводнению [17, с. 208].
Основными видовыми позициями для создания живописных и гравировальных панорам Петербурга были: башня Кунсткамеры (панорамы Дж. А. Аткинсона, А. То-зелли), колокольня собора Апостолов Петра и Павла (Дж. Р. Бернардацци, Ш.-К. Ба-шелье). Снятые с них круговые виды Петербурга не стали основой для панорамных зрелищ, но сам принцип их изготовления (несколько листов, потенциально способных составить круговую картину) вдохновлен опытом панорам и модой на подобные зрелища.
Промежуточные формы иконографии Петербурга
Кроме панорам и круговых картин режим панорамного видения воплощен в ряде промежуточных форм, к тому же более знакомых современному зрителю, чем несохранившиеся большие панорамы. Как замечал Дж. Крери, при переходе от камеры-обскуры к панораме (1820–1830-е гг.) происходит «постепенное репозиционирование наблюдателя от фиксированных отношений внешнего и внутреннего, предполагаемых камерой-обскурой, к неразмеченному пространству, где различия между внутренними ощущениями и внешними знаками окончательно размыты» [10, с. 41–42]. Панорамный тип видения реализуется не только в панорамах-зрелищах, но и традиционном живописном формате.
Серии акварельных и живописных видов Петербурга отражают сформировавшиеся в русском искусстве к концу XVIII в. тенденции пейзажной живописи, например, виды отдельных уголков города. Художники теперь выбирают не только парадные виды, но и более скромные части Петербурга [17]. В то же время А. Корн-дорф отмечает, что в начале XIX столетия «панорамное видение, ориентированное на бескрайнее пространство, становится воплощением идеи неограниченного зрения и проникает в пейзажную живопись и градостроительные концепции» [9, с. 394]. М. Ямпольский пишет об идее транспаранта (покрова), через который просачивается свет и, таким образом, наделяет пространство глубиной и движением [20, с. 69–70]. Роль света в живописи этого периода многократно возрастает. Во многих полотнах Б. Патерсона, В.С. Садовникова, Ф.Я. Алексеева, И.Г. Майра, М.Н. Воробьева, К.П. Беггрова зачастую обнаруживаются тенденции к панорамности: преоблада- ние горизонтали над вертикалью, наличие низкого горизонта, топографическая точность, затемнение переднего плана в то время, как дальний план воплощает идею транспарантной живописи.
Переходной между станковой живописью и панорамой можно считать картину Г. Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6-го октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге». На ней запечатлен военный парад, на котором присутствуют более 200 зрителей, наблюдателей этого действа, которые в это время на Царицыном лугу и в таком количестве присутствовать не могли [5]. Несмотря на некоторый сюжетный вымысел, картина погружает в себя зрителя, позволяя наблюдателю блуждать по полотну, изучая масти лошадей, мундиры офицерского состава, особенности костюма горожан, вглядываясь в лица высших государственных чинов, литераторов, купцов, фабрикантов, актрис – горожан 1830-х гг. Не только десятки портретных изображений, но и невероятные размеры картины 212×345 см заставляют взгляд зрителя перемещаться в пространстве, превращают визуальный опыт в длительность.
Разнообразие и количественное увеличение видов Петербурга в первой трети XIX в. обусловлены, по словам М. Ямпольского, «панорамным расширением зрения», то есть сменой зрительной модели восприятия окружающей действительности.
В 1820–1840-х гг. в Петербурге одним из важнейших оптических развлечений становится косморама – вид зрелища, представляющий собой «оптическое путешествие», «выставку перспективных видов (качественно исполненных), которые рассматривались зрителем через круглые линзы-окошки» [14, с. 70]. Косморамами называли потешные ящики (райки), которые были неотъемлемой частью уличных гуляний и ярмарок, где зрители через маленькое окошко смотрели картинки. А также были специальные комнаты, так называемые «косморамные кабинеты», в стены которых были вмонтированы перспективные ящики с оптическими видами.
Особое место в иконографии Петербурга занимают камерные панорамы, предназначенные для индивидуального рассматривания, в отличие от панорам-зрелищ, «публичных образов», как назвал их П. Ви-рильо. Как правило, они были очень длин-
Общество
ными и демонстрировались при помощи специальных валиков, создавая иллюзию движущегося изображения. Речь идет, в первую очередь, о космораме «Екатерин-гофское гулянье» К. Гампельна 1824 г. Еще один пример подобного приватного оптического развлечения – панорама Невского проспекта В.С. Садовникова 1830 г. Каждый лист панорамы имеет перспективные построения, отражающие глубину пространства. Все виды имеют равнозначный статус и за счет длинной протяженности позволяют скользить взглядом от фрагмента к фрагменту. Склеенные между собой листы могли помещаться в специальный небольшой ящик с прозрачной верхней крышкой, снабженный двумя валиками, позволявшими прокручивать панора-му3. Таким образом, косморама Гампельна и панорама Садовникова представляют собой варианты динамических камерных оптических зрелищ, восходящих к прин- ципу панорамы.
Общество. Среда. Развитие № 2’2022
Фотография и серийный образ
Еще один режим видения, связанный и с появлением фотографии, и с реальным увеличением размеров городов второй половины XIX – начала XX в., – режим серийного образа. К середине XIX в. возросшие темпы строительства, преобразующие старые и создающие новые городские кварталы, по словам С. Маккуайра, выдвигали новые требования к образам города. Анализируя процесс османизации Парижа и его фотофиксацию Ш. Марвилем, С. Маккуайр пишет о «переходе от самодостаточности отдельно взятого изображения к новой логике, где смысл передается “накопительно”, в рамках последовательной серии или набора изображений» [12, с. 34]. Отдельные фото видов могут иметь перспективное или панорамное построение, но они не существуют сами по себе, а являются частью серии; в то же время образ большого города возможен только как огромная серия изображений.
Отчасти серийность была характерна и для живописи первой половины XIX в. хотя бы по способу создания изображений. В 1820-е гг. появляются альбомы литографий «Виды Санкт-Петербурга и его окрестностей», а затем в 1826 г. выходит
«Новая коллекция 42 видов Санкт-Петербурга и его окрестностей…». Тем не менее вся предшествующая фотографии серийность имела ограниченный характер (12, 5, 8, 9, 42 вида) и обладала логикой, определенной последовательностью и композицией. Каждый вид стремился дать наиболее целостное представление об изображаемом объекте. Фотографические же серии имели преимущество в силу скорости создания, качества и, что немаловажно, потенциально бесконечного количества изображений [8].
Вследствие технических особенностей фотографии довольно скоро стала распространяться архитектурная съемка. Впервые систематически фотографировать Петербург начал Дж. Бианки в 1852 г. В его работах находит продолжение тенденция к изображению «воображаемого города». Фотограф при создании своих большеформатных ведут «изымал» из снимков некоторые подробности повседневной жизни города, такие как многочисленные телеграфные провода, мельтешение общественного транспорта, покосившиеся столбы и др. Активно применяя панорамную съемку, Бианки стремился «максимально выявить ансамблевый характер» Петербурга [8].
К концу 50-х гг. XIX в. широкое распространение получает стереоскоп, специальный оптический прибор, через который рассматривались карточки – стереопары с двумя идентичными фотографическими изображениями. Как отмечает Дж. Крери, «именно стереоскоп стал важнейшим знаком перераспределения и поглощения тактильного (восприятия) оптическим» [10, с. 84]. На смену осязанию приходит зрение. Стереоскоп создавал иллюзию объемного пространства и эффект присутствия [19, с. 19–20; 5].
Осенью 1858 г. П.-А. Ришбур снимает «Панораму Петербурга с крыши Исаакиевского собора», состоящую из 12 перспективных видов. Важно отметить, что фотограф не планировал соединять отдельные снимки в панораму. Фотографии, сделанные Ришбуром, имеют различную перспективу, линию горизонта, а также он не стремится выверять границы кадров, что необходимо для дальнейшей сборки панорамы [8]. Таким образом, перед нами серия самостоятельных взглядов одного наблюдателя. Но уже в 1861 г. неизвестный автор создает «Круговую панораму Петербурга», в которой отдельные кадры созданы с соблюдением соразмерности, единой линии горизонта и перспективы, с целью создания целостного произведения.
Следом, в 1859 г., начинается работа над двенадцатитомным изданием «Художественные сокровища древней и новой России Альбом Сокровища России» французского литератора Т. Готье и светопис-ца П.-А. Ришбура [18]. Несмотря на то, что запланированная авторами работа была осуществлена частично, и были опубликованы лишь пять альбомов «сокровищ», тем не менее они имеют большое знание для исследования визуального восприятия Петербурга.
Значительный вклад в создание визуальной продукции с изображениями Петербурга и его окрестностей внесли фотографы немецкого происхождения А. Лоренс и А. Фелиш. Их работы в 1860– 1870 гг. активно распространяются в качестве многочисленных почтовых карточек с изображениями архитектурных и ансамблевых достопримечательностей столицы, небольших улочек и парков [19]. Также были распространены примеры, где на одном паспарту размещались несколько различных городских видов. Как отмечает С. Маккуайр, «открытка подпитывала формирующееся восприятие города как собрания фрагментов, местности с множественными перспективами; пространства, которое уже не уместишь в один снимок»
[12, с. 48]. При этом открытки не обладают уникальностью и исключительностью образа, напротив, в них подчеркиваются серийность, тиражность и периодическая воспроизводимость. Обширное наследие творчества А. Фелиша составляют сувенирные альбомы с видами Петербурга, издаваемые отдельными тиражами [7].
Исследование иконографии Петербурга с его основания до конца XIX в. позволило обнаружить развитие режимов видения, характерных для визуальной культуры Нового времени: режим камеры-обскуры, тесно связанный с авторитетом перспек-тивистского зрения и идеей тактильного ощупывания пространства; режим панорамного видения, отделивший осязание от зрения, наделил наблюдателя новыми полномочиями и активной зрительской позицией; режим производства серийного образа города, основанный на накопительном эффекте восприятия города. Наличие определенной категории промежуточных изображений Петербурга в период актив- ного распространения панорам, а также начало развития идеи серийности в гравюре и живописи XVIII – первой трети XIX вв., подтверждающие смену визуальной парадигмы, говорят о наслоении указанных режимов друг на друга.
Список литературы Город как "территория изображений": иконография Петербурга XVIII-XIX веков и визуальный опыт
- Александрова Н.И. Русская гравюра XVIII века – первой половины XIX века // Очерки по истории и технике гравюры. – 1987. – Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.russianprints.ru/publications/rusgrav18-19.shtml (15.01.2022)
- Алексеева М.А. Михайло Махаев – мастер видового рисунка XVIII века: биография отдельного лица. – СПб.: Журн. Нева, 2003. – 447 с.
- Аркин Д. Перспективный план Санкт-Петербурга 1764–1773 гг. (План Сент-Илера – Горихвостова – Соколова) // Архитектурное наследство. – 1955, № 7. – С. 13–38.
- Бархатова Е.В. Санкт-Петербург в фотографиях XIX века. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://rosphoto.org/visit-online/virtual-exhibitions/sankt-peterburg-v-obektive-chereda-zapechatlenij/#sel=14:1,15:4
- Голдовский Г.Н. Художники братья Чернецовы и Пушкин. – СПб.: Гос. Русский музей, 1999. – 151 с.
- Гордин А.М., Денисов Ю.М., Козырева Н.М., Кошкарова Л.Н. Город глазами художников: Петербург–Петроград–Ленинград в произведениях живописи и графики. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 394 с.
- Китаев А. Немецкий вклад в российскую фотографию XIX века // Photographer.ru. – 2018. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.photographer.ru/cult/history/6521.htm#sdfootnote11sym (17.02.2022)
- Китаев А. Миссия Ришбура. Светописные сокровища России // Photographer.ru. – 2018. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.photographer.ru/cult/history/7632.htm (17.02.2022)
- Корндорф А.С. Фантом и ремесло. Театральная сценография Нового времени: от законов архитектуры к принципам живописи // Искусствознание. – 2016, № 1–2. – С. 378–425.
- Крери Дж. Техники наблюдателя. – Видение и современность в XIX веке. – М.: V-A-C press, 2014. – 256 с.
- Лотман М.Ю. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государственного университета. Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам XVIII. Вып. 664. – Тарту: Тартуский государственный университет, 1984. – С. 30–45.
- Маккуайр С. Медийный город. Медиа, архитектура и городское пространство. – М.: Strelka Press, 2014. – 392 с.
- Новик А.А. Мотив «воображаемого путешествия» в панорамных представлениях первой половины XIX века в России // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8. – СПб.: СПбГУ, 2018. – С. 280–290.
- Новик А.А. «Народная косморама»: происхождение русского райка в контексте истории оптических медиа XIX века // Новое литературное обозрение. – 2019, № 2 (156). – С. 62–76.
- Новик А.А. Ожившая светопись. Кабинеты камеры-обскуры в Петербурге // Шаги / Steps. Т. 3. – 2017, № 3. – С. 108–125.
- Санкт-Петербург на картах и планах первой половины XVIII века / С.В. Семенцов, О.А. Красникова, Т.П. Мазур, Т.А. Шрадер. – СПб.: Эклектика, 2004. – 432 с.
- Скворцова Е.А. Роль Дж. А. Аткинсона в развитии панорамы в русском искусстве // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2011, вып. 1. – C. 204–213.
- Сназина В.Б. Альбомы Теофиля Готье «Художественные сокровища древней и новой России: Исаакиевский собор» // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2011, вып. 1 (4). – С. 165–181.
- Федюшина Н.А. Фотография. Виды Петергофа. 1854–1917: Каталог коллекции. – СПб.: ГМЗ «Петергоф», 2018. – 328 с.
- Ямпольский М.Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. – М.: AD Marginem, 2000. – 287 с.
- Ellis M. Spectacles within doors’: Panoramas of London in the 1790s // Romanticism. Vol. 14. – 2008, № 2. – P. 133–148.
- Engraved view of London by C.J. Visscher showing the Globe. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.bl.uk/collection-items/engraved-view-of-london-by-c-j-visscher-showing-the-globe-1616
- Huhtamo E. Illusion In Moution. – L.: The MIT Press, 2013. – 438 p.
- Mazur T.P. Saint-Petersburg in Perspective. Saint-Hilaire – Sokolov – Gorikhvostov City Plan 1765–1773. – P. 167. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://kriga-spb.ru/Sthil/Mazur2.pdf
- Woodward D. Maps and the Rationalization of Geographic Space // Circa–1492 Art in the age of exploration by Jay Levenson. – L.: Yale University Press, 1991. – P. 83–87.