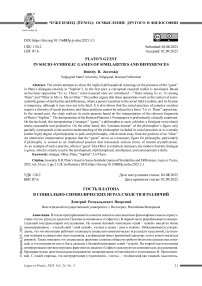Гость Платона в социально-символических играх сходств и различий
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка показать имплицитные философские смыслы присутствия «гостя» (ξένος) в диалогах Платона (в основном в «Софисте»). В первой части разрабатывается концептуальный инструментарий исследования. На основе базовой оппозиции «свой / чужой» вводятся более нюансированные – «чужой свой / свой чужой», «чужое в своем / свое в чужом». Обосновывается утверждение, что эти оппозиции работают в контексте социально-символических игр сходств и различий, где позиция человека в социальном поле подвижна, а ее фиксация имеет временный характер, хотя и может оказаться роковой. Также показано, что социальные практики сложных обществ требуют богатства социальных позиций, и эти позиции не могут быть сведены к базовой оппозиции «свой / чужой». Во второй части на основе интерпретации соответствующих фрагментов диалога «Софист» реализуются основная цель исследования. Предварительно критически рассматривается интерпретация отечественного платоноведа И. Протопоповой. С одной стороны, эта интерпретация («чужеземец», «гость» – это философ как таковой, мыслитель везде чужой) представляется обоснованной и продуктивной. С другой стороны, это «романтизация» фигуры философа, не вполне соответствующая как античному пониманию философа включенным в социальные практики и до некоторой (достаточно высокой) степени «своего» в полисе, так и философии как таковой, отнюдь не склонной к позиции «идиота». В качестве альтернативы предлагается интерпретация «гостя» как фигуры, в силу своей инаковости необходимой для философии, если понимать философию как интеллектуальную практику, трансцендирующую всякие мыслительные кристаллизации. В качестве примера такой практики, где крайне необходим «гость» как Другой, приводится современный сократический диалог, используемый преимущественно в освоении философских интеллектуально-коммуникативных навыков.
Чужеземец, Другой, Платон, «Софист», свой / чужой
Короткий адрес: https://sciup.org/149150053
IDR: 149150053 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.3.3
Текст научной статьи Гость Платона в социально-символических играх сходств и различий
DOI:
Цитирование. Яворский Д. Р. Гость Платона в социально-символических играх сходств и различий // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 3. – С. 21–28. – DOI:
Обращение к теме «гостя», «ксена» (ξένος) в контексте философии едва ли не в первую очередь вызывает в памяти «чужеземцев» из платоновских диалогов «Софист», «Политик», «Законы» и «Послезако-ние». Диалоги Платона не то чтобы испытывают дефицит иностранцев: более трети участников платоновских диалогов происходят не из Афин и их окрестностей, а из других полисов Эллады и отдаленных колоний 1. Однако почти все эти чужеземцы названы поименно, и только гости из Элеи («Софист» и «Политик») и Афин («Законы» и «Послезаконие») оставлены безымянными. И это обстоятельство делает их «чужеземность» практически ключевой характеристикой персонажей, а Платона – первым философом, тематизировавшим Другого. Велик соблазн пойти по легкому для нашего сравнительно мягкому времени пути: воздать Платону хвалу как провозвестнику новой системы социальных ценностей, в которой нет места ксенофобии, а двигаясь дальше посетовать на то, что эта система ценностей еще недостаточно укоренена. Однако мы не можем быть столь наивны в отношении Платона и его времени. Кроме того, наши герменевтические амбиции, надеюсь, простираются дальше современных благочестивых упражнений. Таким образом, мы попытаемся выявить имплицитные философские смыслы присутствия «гостей» в диалогах Платона .
Начать необходимо с инвентаризации нашего концептуально-методологического инструментария. Самый грубый инструмент – оппозиция «свой / чужой» – сразу же показывает низкую работоспособность. В самом начале диалога «Софист» мы видим, что гость из Элеи занимает в ситуации речевого взаи- модействия более сложную позицию, чем «чужой» в кругу «своих». Феодор – ученик Сократа – представляет элейца не просто как «чужеземца», то есть чужого, но и как в некоторой степени уже входящего в круг своих: «друга последователей Парменида и Зенона, истинного философа». Как элеец, гость – чужой, но как «истинный философ», он, безусловно, свой для собеседников. Сократ как бы развивает речевую игру Феодора и (по-види-мому, слегка иронизируя) высказывает предположение, что гость из Элеи – это не чужеземец, а «некий бог». «Более того, это гомеровский «бог-покровитель чужеземцев», который специально приставляется к совестливым людям, чтобы помогать им различать «своеволие» и «законность» их действий. И в таком смысле – это «бог-обличитель» [Платон 1993, 275] 2.
Неоднозначность позиции элейского гостя в контексте дихотомии «свой / чужой» не удивляет, если принять во внимание опыт социальной жизни, где мы имеем дело с тонкой символической игрой сходств и различий – игрой, правила которой четко не определены и весьма подвижны. Эта ситуация объясняется в более широком контексте постструктуралистской теорией знака, утверждающей взаимную подвижность слоев означающих и означаемых 3. Э. Бенвенист в «Словаре инодоевропейсаких социальных терминов» показывает, как одно и то же слово hostis (эквивалент греческого ξένος) в разных контекстах и в разные периоды римской истории принимает значения в диапазоне от «гостя» (человек, защищенный правилами гостеприимства) до «врага». Примерно тот же спектр значений наблюдается и в греческом языке: от статуса «чужой» (и даже сильнее – «вар- вара») до ярко позитивного «друг» (у Платона: w ^eve! - друг мой!), включая нейтральный статус «иностранный наемник» [Бенвенист 1995, 77–79].
Подвижность пары означающих «свой / чужой» относительно одного и того же человека иллюстрирует фрагмент восьмой песни гомеровской «Одиссеи». Это – сцена состязаний, устроенных царем феаков Алкиноем в честь своего гостя, Одиссея (тогда хозяева еще не знали, что это знаменитый Одиссей). Победитель среди борцов Эвриал начал провоцировать Одиссея участвовать в состязаниях, задевая самолюбие гостя. Одиссей вступил в словесный поединок с дерзким молодым человеком и стал хвастать собственными достижениями, а затем и демонстрировать свои физические возможности. Вдохновленный успехом, Одиссей сам стал вызывать феакийцев на состязание. Неизвестно, чем бы закончилась эта игра гордости, если бы мудрый Алкиной не взял ситуацию в свои руки и не напомнил бы о том, что Одиссей пребывает в статусе гостя и хозяевам не подобает бросать ему вызов (Одисс. 8:158-240) [Гомер 1967, 503–505]. В течение нескольких минут Одиссей успел побывать почетным гостем, чужеземцем (объектом насмешек), дерзким соперником (в одном шаге от врага) и снова гостем. Насилие, что называется, «висело на волоске». Разумеется, это лишь литературный вымысел, но велика вероятность того, что читатель сам из собственного социального опыта сможет привести аналогичную ситуацию риторических игр с понятиями «свой / чужой», «наш / не наш».
Такую же символическую подвижность мы обнаруживаем и в приведенном уже отрывке из платоновского «Софиста». Там изощренная социально-символическая игра сходств и различий задается тонкой иронией Сократа, сравнивающего элейского гостя с богом-обличителем. Феодор настолько чувствителен к этой иронии, что слова Сократа приводят молодого человека в смущение. И он начинает «играть на понижение»: «Не таков нравом, Сократ, этот чужеземец, он скромнее тех, кто занимается спорами, и представляется мне вовсе не богом, но скорее человеком божественным: ведь так я называю всех философов» [Платон 1993, 275].
Подвижность слоев означающего и означаемого между собой может прерываться, когда эти слои как бы пристегиваются друг к другу, и тогда возникает семиотическая определенность 4. Если снова обратиться к примеру из «Одиссеи», такую «пристежку» осуществил Алкиной, зафиксировав Одиссея в статусе почетного гостя. Чины, звания, исполняемые обязанности, социальные роли – все это пункты «пристежки» означающего и означаемого. Тем не менее, как было показано выше, игра сходств и различий далеко не во всех случаях дает определенность в оппозиции «свой / чужой». Эти игры не столь жестко устроены и допускают еще одну оппозицию: «чужой свой» и «свой чужой».
Обратимся за примером этой оппозиции к «Эпосу о Гильгамеше». Главный герой «Эпоса» – молодой царь Урука Гильгамеш – защитник своего города, спасший его благодаря своей мудрости от могущественного завоевателя («Стеной обнес Урук огражденный»). В этом он – свой. Но вместе с тем он угнетает горожан («Отцам Гильгамеш сыновей не оставит», «Матери Гильгамеш не оставит девы» [Эпос о Гильгамеше 2006, 8]), и в этом он – чужой, чужой свой . Зеркальным отражением Гильгамеша выступает его друг Энкиду – дикарь, порожденный богиней, чтобы стать достойным соперником Гильгамеша и отвлечь заносчивого царя от постоянной демонстрации своего превосходства над согражданами. Энкиду изначально чужой. Это подчеркивается и описанием его внешнего вида («Шерстью покрыто все его тело» [Эпос о Гильгамеше 2006, 9]), и характеристикой его нрава («дикарь-человек», «муж-истребитель» [Эпос о Гильгамеше 2006, 11]). Вместе с тем Энки-ду выполняет возложенную на него задачу, отвлекая Гильгамеша на себя и вместе с ним совершая подвиги ради благополучия Урука: герои добывают ливанский кедр, убив охранявшее рощу чудовище, и избавляют город от страшного зверя, насланного богами. В этом Энкиду предстает своим, точнее, своим чужим .
О том, что «Эпос о Гильгамеше» отражает сложившиеся на Древнем Востоке и в античной мире социальные реалии, свидетельствуют две социально-культурные фигуры: гость и фармак. И тот, и другой обладают особыми (исключительными) статусами в обществе.
Гостю, несмотря на то, что он чужой (и благодаря тому, что он чужой), оказывается покровительство. Это нетрудно объяснить тем, что гость является связующим звеном локального общества с внешним миром. Гость – свой чужой. Фармак, хотя находится под защитой общественных институтов, в кризисной ситуации выступает той частью общественного организма, которой жертвуют во имя сохранения целого. Фармак – чужой свой. Вслед за гостем и фармаком идет целая череда фигур, обладающих амбивалентным статусом: правитель, торговец, обладатель исключительных навыков (актер, музыкант, кузнец и т. п.), пленник-раб, заложник и т. д.
Дальнейшая нюансировка концептуального инструментария ведет к оппозиции «чужой в себе» / «свой в чужом». В этом пункте социологическое переходит в психологическое. Этот переход отнюдь не запрещен той герменевтической задачей, которая перед нами стоит, так как «гость» – это не обязательно социологическая фигура, так же как и платоновская философия не может быть сведена исключительно к области социальной и отгорожена от области душевного.
С первого взгляда может показаться, что открытие «чужого в себе» связано с обнаружением делимости индивида, сложной организации «Я», души. Однако сама идея целостного человека возникает сравнительно поздно – не ранее «осевого времени» – и замещает стихийные представления о многосос-тавности человека, глубоко укоренившиеся в так называемом «магическом мышлении». Только идея души как целостности, обнаружение единства «себя» создает тот фон, на котором становится заметно то, что не может быть всецело сведено к «себе» и нарушает душевную гомогенность. Тема «чужого в себе» присутствует уже в платоновском «Федре», где душа образно представлена как единство возничего и двух коней, один из которых «прекрасен и благороден», а другой – «его противоположность». Управлять душой – «дело тяжкое и докучное» [Платон 1993, 155], потому что «конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего» [Платон 1993, 156]. Порой оба коня представляют собой помеху для ума-возничего, стремящегося к созерцанию непреходящего знания.
Такая душа «то поднимается, то опускается – кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет» [Платон 1993, 157]. Так, кони в этом образе и есть пример «чужого в себе».
Однако «чужой в себе» – это не только источник проблем и угроз. Он, напротив, может быть источником блага. Таким благотворным «чужим» для апостола Павла выступает Христос: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:20).
«Чужим в себе» может быть и собственная душа, собственное «Я», собственное «сердце», если понимать их так, как Августин в «Исповеди»: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» [Августин 2005]. Впрочем, у Августина как будто бы означающие возобновляют кружение и сам исповедующийся погружается в воронку, образуемую этим вихрем. Уже не вполне понятно: где здесь то, что можно назвать «своим» или «собой», а где здесь «чужое». То ли исповедующийся Августин предъявляет свою душу Богу в исповеди, то ли именно в момент исповеди он и становится «собой», останавливая хоровод означающих 5.
Для новоевропейского просвещенного, рационального субъекта «чужой в себе», – это безумец, одержимый страстями. Безумие – это и есть утрата себя, трансформация в чужого, который поджидает внутри. Примечательно, что в английском языке слово alienist (от alien – иностранец) до сих пор обозначает врача-психиатра, а еще в XIX в. слово alienation обозначало любое психиатрическое расстройство 6. Психоаналитическое «бессознательное» – еще одно имя «чужого в себе».
Противоположность «чужому в себе» – «свой в чужом» – открывается, когда пробле-матизируется восприятие внутреннего мира другого человека и тематизируется интерсубъективность. Гуссерль в параграфе 44 «Картезианских медитаций», рассматривая способ данности Ego Другого, приходит к выводу, что Другой – это именно Alter Ego, то есть «свой в чужом»: «Другой, согласно смыслу своего конституирования, отсылает ко мне самому, другой есть отражение меня самого; и все же не отражение в собственном смысле; он – аналог меня самого, и опять же не аналог в обычном смысле» [Гуссерль 2010, 122].
Резюмируя результаты подготовительной работы, можно сказать, что фигура гостя дрейфует где-то в акваториях «чужого», «своего чужого» или «чужого в себе», подавая сигналы, смыл которых уже до некоторой степени раскрывается в том, что и «свой чужой», и «свой в чужом» расширяют наши коммуникативные возможности, позволяют трансцен-дировать ту смысловую область, которая нам пред-дана и внутри которой мы, как могло бы показаться, обречены находиться. Однако это слишком общий ответ, чтобы быть принятым в качестве удовлетворительного, поэтому теперь следует обратиться к самим платоновским текстам.
Разумеется, автор этой статьи не первым обратил внимание на фигуры платоновских гостей. Они давно беспокоят платонове-дов, и это беспокойство отнюдь не бесплодно [Светлов 2013, 341]. Различные исследователи этих персон задаются разными вопросами, не всегда совпадающими с нашими. Например, Р.В. Светлова интересует не столько сама загадочная фигура элейского гостя из диалогов «Софист» и «Политик», сколько то обстоятельство, что рассуждения о политике Платон поручает именно элейцу, в то время как в фундаментальном и обстоятельном диалоге «Законы» политические проблемы обсуждают носители трех великих политических традиций Эллады – критянин Клиний, лакедемонянин Мегилл и безымянный афинянин (предположительно Сократ).
Исследователь, опираясь на косвенные свидетельства источников, достраивая пробелы в сведениях, приходит к выводу, что в Элее благодаря известной философской школе реализовалась новая политическая парадигма, альтернативная архаическим полисным порядкам с ее запутанной религией, культом силы, чрезмерным вниманием к состязательности. Он делает вывод, что «элеаты действительно могли восприниматься как политические эксперты – не как создатели политической теории в современном смысле этого слова, а как нравственно-социальные проповедники, как те, кто мог действовать правильно исходя из конкретной ситуации и верной ситуативной оценки» [Светлов 2013, 347].
Ближе к нашему вопрошанию находятся размышления И. Протопоповой [Протопопова
2013]. Исследовательница опирается на уже сложившуюся в платоноведении традицию толкования чужеземца и предлагает собственную версию.
Ее подход основывается на «драматической интерпретации» платоновских диалогов [Rosen 1983] и на включении в предмет анализа связки из трех диалогов, объединенных явным образом сюжетно и неявным – теоретически: «Теэтета», «Софиста» и «Политика». «Драматический подход» требует вовлечения в интерпретацию на первый взгляд второстепенных деталей сюжета на основе понимания платоновских диалогов как драматических (в буквальном смысле слова) философских произведений. Иными словами, все то, что в литературоведении относится к специфическим художественным средствам выражения, рассматривается не как второстепенный, необязательный фон идейно-содержательного наполнения диалогов, а как особый способ выражения позиции автора, которая сама по себе вовсе не обязательно является однозначной, категоричной, недвусмысленной.
Сюжетная связь «Теэтета» с дилогией «Софист» и «Политик» не лежит на поверхности. «Софист» и «Политик» объединены сквозной темой обсуждения трех связанных между собой фигур – софиста, политика и философа (фигура философа осталась не обсуждена, что породило среди исследователей гипотезу о том, что Платон не смог завершить свой замысел [Протопопова 2013, 367]), а также основными действующими лицами: Сократом, Феодором и Чужеземцем из Элеи. Четвертым собеседником в «Софисте» является Теэтет, а в «Политике» Сократ-младший. «Те-этет» же представляет собой нередкий у Платона пример «диалога в диалоге». В начале беседу ведут Евклид и Терпсион, она происходит уже после казни Сократа. По просьбе Терпсиона Евклид передает ему содержание беседы Сократа с юным Теэтетом и Феодором. Ни в «Софисте», ни в «Политике» рамочный диалог между Евклитом и Терпсионом не упоминается. Тем не менее окончание диалога «Теэтет» и начало «Софиста» позволяют увидеть сюжетную связь между этими текстами. В конце «Теэтета» Сократ говорит, обращаясь к Феодору: «Теперь же я должен идти в царский портик по тому обвинению, что написал на меня Мелет. Утром, Феодор, мы опять здесь встретимся» [Платон 1993, 274]. «Софист» начинается со слов Феодора: «Согласно с вчерашним договором, Сократ, мы и сами пришли, как и следовало, да вот и некоего чужеземца из Элеи родом с собой ведем» [Платон 1993, 275].
Эта сюжетная связь, с которой можно согласиться, указывает и на теоретическую связь диалогов. «Теэтет» посвящен разоблачению сомнительного знания, носителем которого выступает юный Теэтет. Сократ, используя свой метод вопросов и ответов, сумел избавить Теэтета от эпистемологической уверенности и тем самым подготовил его к работе над истинным знанием. Однако, как известно, Сократ знает, что сам ничего не знает. Поэтому было бы странно быстро сменить роль незнающего Сократа на всезнающего Сократа-мудреца. Именно поэтому Сократ уступает роль ведущего и одновременно носителя подлинного знания другому собеседнику – Чужеземцу из Элеи [Протопопова 2013, 375]. Но почему именно чужеземцу? Может быть потому, что он «свой среди чужих», будучи элейцем и «другом последователей Парменида и Зенона» [Платон 1993, 275], в диалоге «Софист» подвергает критике тезис великого элейца о несуществовании небытия, и эта как бы внутренняя критика звучит убедительнее?
И. Протопопова предлагает свою версию ответа. Во фрагменте, который был уже приведен («Некоего чужеземца из Элеи родом с собою ведем, друга последователей Парменида и Зенона, истинного философа») имеет разночтение: «В некоторых рукописях вместо «΄εταιρον» (друг) стоит «΄ετερον» (иной, другой)» [Протопопова 2013, 383]. Так, Чужеземец из Элеи вовсе не друг последователей Парменида и Зенона, а иной по отношению к ним. Описание элейского Чужеземца (собранное Р. Блонделл [Blondell 2002]) усиливает этот образ инаковости: он не имеет имени, социальных характеристик, он скитается как бог и как настоящий философ [Протопопова 2013, 376–377]. Примечательно и то, что Сократ вопиющим образом нарушает этикет в отношении элейца. Сначала он обменивается серией реплик с Феодотом о Чужеземце так, будто тот отсутствует. Затем, обраща- ясь к Чужеземцу, он также игнорирует нормы речевого этикета и сразу приступает к делу: «Так, Чужеземец, не откажи нам в первом одолжении, о котором мы тебя попросим» [Платон 1993, 276]. Все это свидетельствует о крайней степени отчужденности Чужеземца, и эта степень настолько крайняя, что затруднительно отнести этого персонажа к действующим лицам, а не к олицетворению какой-то идеи. Действительно, И. Протопопова делает вывод, что Чужеземец из Элеи – это «персонификация Иного» и в этом качестве он выступает как эйдос философа (или как философ par exellance [Rowe 1995]). То есть философ – чужой этому миру в целом, он не встраивается в многочисленные оппозиции своего и чужого: он не свой и не чужой. Получается, Чужеземец – символ философа как «чужого».
Потрясающая характеристика философа! Но слишком не греческая, чтобы быть принятой безоговорочно. Такая интерпретация Чужеземца из Элеи слишком романтична: философ как одиночка, «совершенно Иной» всему миру – это скорее романтический герой, чем персонаж драмы Платона. При всей трагичности положения философа в античной Греции (чего стоит только трагедия Сократа), классическая греческая культура, к которой принадлежал Платон, все-таки сторонилась идиотической позиции «совершенно Иного». Даже иной должен быть как-то вовлечен в коммуникацию. Его позиция скорее функциональна, чем демонстративно этична, он – не лютеровский герой, которой стоит на своем, вопреки всему миру, и «не может иначе».
Попробуем еще раз обратиться к тексту.
В самом начале диалога «Софист» Сократ четко выражает, что ему нужно от Чужеземца: «Кем считали и как называли этих людей [философов] обитатели его мест» [Платон 1993, 275]. Примечательно, что Сократа почему-то интересует не личное мнение Чужеземца, а ведь Сократ обычно обращается к конкретному человеку, имеет дело с его особенным мнением. Зачем это Сократу? Ответ на этот вопрос можно найти в тех играх сходств и различий, о которых речь шла выше. Чужеземец, несмотря на свою инаковость, все-таки до некоторой степени включен в то сообщество, к которому относится и
Сократ: он – философ. Именно как «истинного философа» его представляет Сократу Феодор. И это означает, что Чужеземец уже относится к сообществу «знающих», то есть тех, кто даже при известном разномыслии включен в философское интеллектуальное поле. Однако именно эта включенность делала бы мысли Чужеземца менее ценными, стереоти-пизированными. До некоторой степени разговор философов – это разговор философа с самим собой. Сократ же ищет способы транс-цендирования наличных форм мышления. Ему нужен истинно другой, а не мнимо другой. Именно поэтому Сократа интересует мнение не самого Чужеземца из Элеи, которое до некоторой степени предсказуемо, а мнение тех, кто еще не вовлечен в сократовские философские практики, кто может донести иной логос. Соотвественно, Сократ как бы смещает интерес от «своего чужого» (Чужеземцу) к «чужому».
Здесь нужно приостановиться и осознать: сколь бы иным не был Чужеземец из «Софиста», он все равно остается внутри мира платоновской мысли. Значит, речь идет не о «своем чужом», а о «чужом в себе». Чужеземец все-таки авторский конструкт, а не реальный человек. Если он и является Другим, то это не Другой как таковой, а дискурсивная симуляция Другого. При всей своей гениальности Платон, как и всякий человек, остается внутри горизонта своей мысли. Между тем ему как философу нужен не воображаемый, а реальный Другой. Как опознать реальность Другого, кроме как по сопротивлению, несогласию. Так, тот смысл, который нами обнаружен в фигуре платоновского чужеземца, не может быть реализован внутри мира платоновских диалогов, внутри мира платонизма и даже внутри мира философии. Чужеземец, гость реален только в силу своей внеположенности в границах мира, которому повстречавшиеся с ним принадлежат. Он необходим, чтобы мы не возвращались в мир иллюзий, мир собственных фантазмов, в свою пещеру (неважно, как понятую, по-платоновски, или по-гоб-бсовски). Таким образом, философия и культура нуждаются в чужеземце как единственной связи с реальным, а значит, они нуждаются и в практиках, где воспроизводится встреча с «гостем».
Примером такой практики служит сократический диалог, который в качестве структурно необходимой части предполагает наличие Другого с его специфическими установками, картиной мира, ценностями. Основные принципы сократического диалога предполагают фигуру Другого как реального собеседника [Макаров 2012, 122]. В этом смысле философствование в целом – это собеседование «гостей», то есть людей, которые друг другу «чужеземцы», а философия – это практика по соотнесению их позиций. Отсутствие фигуры «гостя» означает прекращение философствования и смерть философии.