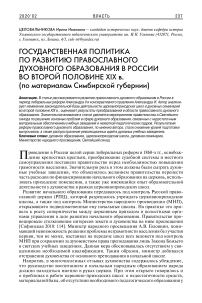Государственная политика по развитию православного духовного образования в России во второй половине XIX в. (по материалам Симбирской губернии)
Автор: Целовальникова Ирина Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается развитие православного духовного образования в России в период либеральных реформ Александра II и консервативного правления Александра III. Автор анализирует изменение законодательной базы деятельности церковноприходских школ и духовных семинарий во второй половине XIX в., оценивает результаты преобразований в области православного духовного образования. Значительное внимание в статье уделяется мероприятиям правительства и Святейшего синода по решению основных проблем в сфере духовного образования, связанных с недостаточным материальным обеспечением учебных заведений и нехваткой педагогических кадров. Результатами реформ православного духовного образования, по мнению автора, стали снижение уровня подготовки выпускников, а также распространение революционных идей в духовных учебных заведениях.
Духовное образование, церковно-приходская школа, духовная семинария, министерство народного просвещения, святейший синод
Короткий адрес: https://sciup.org/170171378
IDR: 170171378 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7163
Текст научной статьи Государственная политика по развитию православного духовного образования в России во второй половине XIX в. (по материалам Симбирской губернии)
П роведение в России целой серии либеральных реформ в 1860-х гг., освобождение крепостных крестьян, преобразвоание судебной системы и местного самоуправления поставили правительство перед необходимостью повышения грамотности населения. Значительную роль в этом должны были сыграть духовные учебные заведения, что объяснялось желанием правительства перенести часть расходов по финансированию начального образования на церковь, использовать приходские помещения, а также уже имеющийся опыт образовательной деятельности у духовенства в рамках церковноприходских школ.
Развитие начального образования передавалось под контроль Русской православной церкви (РПЦ), которой разрешалось учреждать церковноприходские школы, а также под контроль Министерства народного просвещения (МНП), открывавшего подведомственные ему начальные школы. На практике это привело к росту соперничества между церковным приходом и волостными органами управления в деле развития начального образования. Правительство провоцировало столкновение интересов земств и духовенства на ниве просвещения [Софинская 2010: 114]. Министр народного просвещения А.В. Головнин, понимавший невозможность решения проблемы неграмотности населения без участия церкви, тем не менее, настаивал на передаче школ всех ведомств под контроль МНП при сохранении за духовенством права преподавания лишь Закона Божьего в светских учебных заведениях. Данная мера обосновывалась отсутствием у священников необходимой квалификации. Таким образом, министр добивался отстранения духовенства от основного преподавания в начальной школе.
Напротив, в многочисленных отзывах духовенства содержалось убеждение, что руководство воспитанием и начальным народным образованием народа должно находиться именно в руках церкви. При этом открыто говорилось и о проблемах в работе церковно-приходских школ: о недостаточности средств, материальной базы, об отсутствии необходимого педагогического образования у учителей [Троицкий 1907: 18]. Школы, устроенные духовенством в Симбирской губернии, помещались в домах священников, наемных квартирах, но в большинстве случаев размещались в церковных караулках – «ветхих, небольшого размера хибарках, с одной малопоместительной, низкой, душной, грязной и мрачной, лишенной достаточного количества света, комнатой» [Троицкий 1907: 7]. Школы были бесплатными и содержались духовенством за свой счет, священник обеспечивал преподавание всех дисциплин, но был не в состоянии обеспечить учащихся достаточным количеством книг и канцелярских принадлежностей.
14 июля 1864 г. Александр ІІ утвердил Положение о начальных народных училищах, которое предусматривало создание нового вида начальных школ. Положение расширяло круг возможных учредителей данных учебных заведений, передавало их в ведение уездных и губернских училищных советов. К начальным народным училищам были отнесены и церковноприходские училища, открываемые православным духовенством. Таким образом, прежнее преобладание духовенства в деле начального народного образования было значительно ограничено, но не ликвидировано. Преподавание в начальных народных училищах должно было осуществляться по учебным руководствам, одобренным как Министерством народного просвещения, так и Синодом. В состав училищных советов, помимо представителей от МНП, МВД, органов городского и земского самоуправления, входили также представители от епархиального ведомства. В губернском училищном совете председательствовал архиерей. Положение декларировало, что народные училища имеют целью утверждение в народе религиозных и нравственных понятий1. В «Высочайшем повелении» от 18 января 1862 г. предписывалось «учрежденные ныне и впредь учрежденные духовенством народные училища оставить в заведывании духовенства с тем, чтобы Министерство народного просвещения оказывало содействие преуспеянию оных, по мере возможности»2.
Тем не менее инициатива по развитию начального образования перешла к министерству и земствам, которые обладали необходимыми для этого финансовыми средствами (казна и земские сборы). В результате действия Положения от 14 июля 1864 г. число церковноприходских школ в Симбирской губернии начинает резко сокращаться. Если в 1865 г. в Симбирской губернии по отчетам благочинных епархии насчитывались 443 церковноприходских школы с 7 766 учащимися, то к концу царствования Александра ІІ их осталось всего 18, а число учеников сократилось до 2813. Под руководством обер-прокурора Д.А. Толстого сокращение численности церковноприходских школ продолжилось. Согласно Положению от 26 мая 1874 г., усиливался административный контроль над начальным образованием со стороны МНП, роль училищных советов падала, архиереи отстранялись от председательства в губернских училищных советах. За духовенством сохранялось лишь право наблюдения за преподаванием Закона Божьего в начальной школе, а также за сохранением ею общего рел игиозно-нравственного направления4.
С вступлением на престол Александра ІІІ происходит поворот в развитии православного духовного образования. Политику в сфере духовного образования в этот период определял обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, в целом признававший значительную роль православной церкви в развитии начального образования. 13 июня 1884 г. Александр ІІІ утвердил Правила о церковноприходских школах. Утверждая правила, на докладе о них он написал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в этом важном деле»1. Для заведования школами при Синоде учреждался Училищный совет, на местах его решения осуществляли епархиальные училищные советы. Преподаватели в эти учебные заведения должны были назначаться преимущественно из выпускников духовных учебных заведений [Толмачев 2007: 83].
Епархиальное ведомство добилось постановления, воспрещавшего земствам без его согласия открывать школы. Одновременно во многих епархиях священники получали предписание открывать церковноприходские школы в тех местах, где уже существовали земские или министерские школы.
После указа 1884 г. развитие церковноприходских школ в Симбирской губернии пошло чрезвычайно быстрыми темпами, особенно богатым был 1885 г., подаривший губернии сразу 43 церковноприходских школы. Таким образом, к концу XІX в. в Симбирской губернии действовала 501 церковноприходская школа [Троицкий 1907: 242]. 4 мая 1891 г. Александр ІІІ утвердил разработанные Святейшим синодом Правила о школах грамоты2. Вновь создаваемые по всей стране школы грамотности образовывались исключительно под наблюдением и попечительством духовного ведомства, вся ответственность за их учебно-воспитательную работу возлагалась на приходского священника.
Однако по своему материальному обеспечению церковные школы значительно уступали земским. Помимо средств Святейшего синода, в качестве основных источников финансирования церковноприходских школ Симбирской губернии выступали пожертвования миссионерского братства Трех Святителей, церковноприходских попечительств, единовременные пожертвования частных лиц и сельских обществ. В отличие от церковноприходских школ, земские имели постоянный источник финансирования из земских сборов. В «Церковных ведомостях» писали, что «с течением времени положение церковных школ все больше и больше будет затрудняться: расходы на школу растут, требования к ней предъявляются все более строгие и повышенные, но источник расхода остается одним и тем же, достиг уже крайнего своего напряжения и может только идти на убыль» [Рожков 2004: 127].
Средств на содержание прирастающего числа церковных школ не хватало, поэтому стремительный рост школ с 1887 г. идет на спад и к началу XX в. останавливается совсем. К тому же нарастающие революционные настроения среди крестьянских обществ и массовый неурожай побудили многих отказаться от обязательств по содержанию церковноприходских школ.
Рост численности церковноприходских школ сдерживался также нехваткой педагогических кадров. Работа в церковноприходской школе была малопривлекательна для выпускников средних учебных заведений ввиду низкой заработной платы и непрестижности работы в сельской местности. Правительство для решения проблемы дефицита учительских кадров вместо финансового поощре- ния духовенства в деле религиозно-просветительского воспитания и обучения приняло определение Святейшего синода, согласно которому «у священнослужителей, не желающих вести занятия в религиозных образовательных учреждениях, должно вычитаться из жалованья от 1/3 до 1/6 части»1. Одновременно было введено обязательное распределение выпускников духовных семинарий на учительские места в церковноприходских школах, где они должны были отработать не менее 2–3 лет, без чего им не предоставлялись места священнослужителей.
Недостаточное финансирование сдерживало также развитие специальных духовных учебных заведений – духовных семинарий и академий. Начинается постепенный отток высоквалифицированных педагогических кадров из духовных учебных заведений. Предметом дискуссий среди иерархов, в правительственных кругах, высшем свете, образованнном обществе опять оказываются недостатки в работе духовных учебных заведений: слабое знание выпускниками церковных традиций и канонического права, оторванность преподавания от реальной жизни, неумение говорить с паствой и даже отправлять богослужение [Римский 1999: 138].
После секуляризации церковно-монастырских имений до 1808 г. деньги на содержание духовных учебных заведений выделялись из казны, затем такая практика была свернута, и на эти цели начали направлять свечные доходы, хотя государство до 1818 г. еще продолжало оказывать им частичную финансовую поддержку. Средств этих было явно недостаточно, и духовные учебные заведения продолжали испытывать большие финансовые трудности. Несоизмеримо низкой была и оплата труда наставников духовно-учебных заведений по сравнению с вознаграждением работы преподавателей школ МНП. Такое низкое финансовое обеспечение лиц, занятых в сфере духовнго образования, крайне негативно вляло на качество подготовки кадров духовенства. Это заставило церковь и правительство вплотную заняться реформированием духовного образования [Таймасов 2004: 147].
Замкнутость духовного сословия и обязанность отдавать детей в духовные учебные заведения привели к переполнению семинарий. Численность их выпускников превысила наличие свободных приходов. Семинарские программы, принятые еще в 1840 г., предполагали изучение основ сельского хозяйства, землемерии, медицины, естественной истории, психологии и педагогики. По замыслу государственных деятелей, православный священник на селе должен был заменить собой и врача, и агронома, и учителя. Предполагалось, что это возвысит его в глазах прихожан, сделает авторитет батюшки непререкаемым [Римский 1999: 146]. Однако такой подход привел к противоположным результатам. Поверхностное изучение названных дисциплин не превращало семинариста в квалифицированного специалиста – медика или агронома, – зато ограничивало его возможность в достаточной мере овладеть специальностью.
Для подготовки проекта реформы духовного образования по повелению императора Александра ІІ был организован специальный комитет при Синоде. В 1866 г. начал работу комитет во главе с митрополитом Киевским Арсением Москвиным, который утвердил уставы семинарий и духовных училищ, а в 1869 г. – устав духовных академий [Протоиерей Владислав Цыпин 2010: 200].
Согласно Уставу о духовных училищах и семинариях, принятому 14 мая 1867 г., в духовные учебные заведения было разрешено принимать детей всех сословий, в т.ч. и податных. Политика, проводимая обер-прокурором Святейшего синода
А.Д. Толстым, была двойственна и противоречива. С одной стороны, он активно поддерживал деятельность миссионерских организаций, ввел в духовных семинариях курс педагогики для того, чтобы священники могли исполнять обязанности учителей в миссионерских и общеобразовательных школах. С другой стороны, разрешив поступать в духовные семинарии лицам, окончившим курс начальной народной школы и 2–3 года прослужившим в должности учителей, он превратил духовную семинарию в оплот революционно-демократических идей социал-демократов и эсеров. В семинариях распространяются социалистические и нигилистские теории, вызывавшие огромный интерес у студентов-семинаристов. Во время революции 1905–1907 гг. учащиеся Симбирской духовной семинарии 2 февраля 1906 г. устроили месяц неповиновения начальству, а после подняли бунт против помощника инспектора. Некоторые семинаристы Симбирской губернии тайно входили в революционные кружки и даже участвовали в террористических заговорах [Кузнецов 2011].
Предоставление выпускникам духовных семинарий права поступать в университеты привело к тому, что семинаристы устремились в университеты, число поступающих в духовные академии снизилось. «Само духовенство все чаще пользовалось правом обучать своих сыновей в гимназиях, чтобы обеспечить им светскую карьеру и избавить от стесненного положения приходского священника или учителя семинарии и духовного училища» [Смолич 1996: 471].
Обеспечение семинарий и училищ изменилось. Содержание преподавателей и управленческого аппарата брала на себя казна, а остальные расходы теперь почти полностью ложились на местные епархиальные доходы от церквей и на само духовенство. Особое внимание в учебной программе семинарий уделялось изучению древних языков, в то время как церковная история, богословские науки и даже русский язык постепенно отходили на второй план. К.П. Победоносцев, проанализировавший в 1880 г. результаты вступительных экзаменов в духовные академии, пришел к заключению о низком интеллектуальном уровене абитуриентов. И это при том, что в академии направлялись лучшие выпускники семинарий. Некоторые из поступающих не могли прочесть тексты Священного Писания, затруднялись сказать, откуда заимствованы приводимые ими тексты [Римский 1999: 219-220].
К концу 1870 г. провал реформы стал очевиден – повсюду наблюдался упадок православной религиозности, рост атеистических настроений. Цель реформы духовных заведений – подготовка пастырей для православного народа, которые оказывали бы сильное нравственное воздействие на прихожан, – не была достигнута. Но у реформы были и положительные стороны. Повсеместно отмечалось укрепление материальной базы духовных учебных заведений и увеличение их финансирования. По многим предметам были составлены программы, выпущены учебники и пособия; во многих семинариях, в т.ч. и в Симбирской, были открыты кафедры, готовившие выпускников к миссионерской работе.
Убийство Александра ІІ 1 марта 1881 г. привело к свертыванию реформы духовных учебных заведений Д.А. Толстова. Под руководством К.П. Победоносцева начинается подготовка новой реформы духовно-учебных заведений, целями которой было поставить духовные учебные заведения под строгий надзор властей и подготовить надежных защитников интересов церкви и государства в условиях проникновения в российское общество радикальных революционнодемократических идей.
В начале 1880-х гг. были изданы новые уставы учебных заведений, направленные на ликвидацию автономии духовных академий и семинарий, усиление надзора за студентами академий и семинаристами. 22 августа 1884 г. был утвержден новый устав духовных семинарий. Он отменял введенную в 1867 г. выборность ректора и инспектора семинарий; в учебную программу вводились новые богословские предметы: библейская история, история русского раскола, сравнительное богословие, апологетика. Для улучшения религиозно-нравственного воспитания в семинариях вводились: должность «духовника семинарии», плата за обучение в семинарии для лиц не из духовного сословия, строгий контроль за библиотеками семинарий [Попова, Попова 2017: 43, 45].
Однако принимавшиеся для «оздоровления» духовных учебных заведений меры не принесли ожидаемых результатов. Революционные события 1905– 1907 гг. затронули семинарии и духовные академии. В их стенах создавались политические организации и кружки. «Везде разливался яд протестантского реформаторства и политического либерализма» [Федоров 2007: 83]. Студенты требовали предоставления им совещательного голоса в академии, освобождения от инспекторского надзора, свободы студенческих сходок и собраний, расширения курса светских дисциплин в академической программе, свободной специализации, расширения приема в академии представителей других сословий. Преподаватели также требовали автономии и демократизации академического строя, восстановления выборности ректорской должности, расширения состава совета и правления университета. Противоречивая и непоследовательная политика российского правительства по развитию духовного образования не позволила достигнуть поставленных целей, более того, привела к противоположному результату – вовлечению учащихся данных учебных заведений в революционное движение, что способствовало углублению дестабилизации внутриполитической ситуации в стране в целом.
Список литературы Государственная политика по развитию православного духовного образования в России во второй половине XIX в. (по материалам Симбирской губернии)
- Кузнецов В.Н. 2011. Лицом к лицу с историей. - Улпресса. 08.10. Доступ: https://ulpressa.ru/2011/10/08/litsom-k-litsu-s-istoriey-valeriy-kuznetsov-pyat-poveshennyih-istoricheskiy-ocherk/ (проверено 14.03.2020)
- Попова О.Д., Попова А.Д. 2017. Бунтующая семинария: протестное движение в духовных учебных заведениях (вторая половина XIX - начало ХХ веков). - Новый исторический вестник. № 2(52) С. 39-56
- Протоиерей Владислав Цыпин. 2010. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 4-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря. 816 с
- Римский С.В. 1999. Российская церковь в эпоху великих реформ. М.: Общество любителей церковной истории. 567 с
- Рожков В. 2004. Церковные вопросы в Государственной думе. М.: Крутицкое патриаршее подворье. 560 с