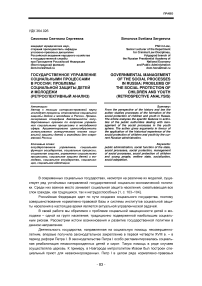Государственное управление социальными процессами в России: проблемы социальной защиты детей и молодежи (ретроспективный анализ)
Автор: Симонова Светлана Сергеевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор с позиции историко-правовой науки исследует процессы становления социальной защиты детей и молодежи в России. Проанализирована специфика деятельности государственных органов по вопросам управления социальными процессами в молодежной сфере. Аргументирована целесообразность использования исторического опыта социальной защиты детей и молодежи для современной России.
Государственное управление, социальная функция государства, социальные процессы, социальная защита, управление социальными процессами, социальная защита детей и молодежи, социальное государство, социализация, социальная адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/14931490
IDR: 14931490 | УДК: 364.026
Текст научной статьи Государственное управление социальными процессами в России: проблемы социальной защиты детей и молодежи (ретроспективный анализ)
В современных социальных государствах, несмотря на различие их моделей, существует ряд устойчивых направлений государственной социально-экономической политики. Среди них важное место занимает социальная защита населения, охватывающая все слои граждан, как трудящихся, так и нетрудоспособных [1, с. 103–104].
Российская Федерация идет по пути создания социального государства, поэтому совершенствование нормативно-правовой базы и системы институтов социальной защиты населения в настоящее время является актуальной управленческой задачей.
В своей работе мы обратимся к проблеме социальной защищенности детей и молодежи – одной из групп населения, традиционно подверженной наибольшим социальным рискам. Рассмотрим истоки возникновения и развитие государственной политики в данном направлении.
Деятельность государства, направленная на социальную помощь несовершеннолетним, впервые получила законодательное закрепление в первой четверти XVIII в. – в период реформ Петра I. В законодательстве Петра I особо регламентировалась социальная реабилитация незаконнорожденных детей и сирот. Такую помощь в ряде случаев осуществляла церковь. К примеру, в Новгороде митрополитом Иовом был построен специальный приют для незаконнорожденных. Петр I в целом ряде нормативно-правовых актов стремился создать унифицированную систему спасения и воспитания незаконнорожденных, которых в то время нередко убивали в младенчестве. Указ от 16 января 1712 г. «О штрафах с офицеров за побег солдат…» содержал множество разнонаправленных мер, в том числе отдельный пункт, касавшийся государственной заботы о незаконнорожденных. В устроенных в губерниях госпиталях предписывалось осуществлять «…прием незазрительной и прокормление младенцев, которые не от законных жен рождены дабы вяшчего греха не делали (сиречь убивства)» [2, с. 779].
Указ от 4 ноября 1714 г. «Об устройстве при церквах гошпиталей для незаконнорожденных детей» регламентировал создание специальных социальных учреждений для «…зазорных младенцов, которых жены и девки раждают беззаконно». Предписывалось строить госпитали (в Москве мазанки, в других городах деревянные); для работы в них набирать «искусных жен», определить им плату по 3 рубля в год. На содержание каждого младенца выделялось «по 3 деньги на день» [3, с. 128].
В последующем законодательстве по данной проблеме появилась важная инновация, направленная на пресечение убийств незаконнорожденных младенцев. В Указе от 4 ноября 1715 г. «О сделании в городах при церквах гошпителей для приему и содержания незаконнорожденных детей» кроме повторения основных положений указов от 31 января 1712 г. и от 4 ноября 1714 г. констатировалось, что некоторые матери своих незаконнорожденных младенцев «…стыда ради отметывают в разные места, от чего оные младенцы безгодно помирают, а иные от тех же, кои рождают, и умерщвляются…». В указе был найден выход – анонимность при сдаче новорожденных в госпитали. Детально пояснялось, что детей можно помещать в специальное окно, «…дабы приношенных лица было не видно». Одновременно вводилась карательная мера для матерей, убивающих младенцев: «…оныя за такия злодейственныя дела сами казнены будут смертию [4, с. 181]. Некоторые исследователи полагают, что именно при Петре I вопрос о призрении сирот как профилактике детоубийства был впервые поставлен в России [5, с. 105].
Очевидно, снабжение госпиталей для незаконнорожденных осуществлялось с нарушениями, поэтому Указ от 1 февраля 1720 г. «О строении в Москве госпиталей для помещения незаконнорожденных младенцев и о даче им и их кормилицам денежного жалованья» предписывал это жалованье «…на прошлые годы выдать, и впредь давать без замедления, по указам из Штатс-Контор-Коллегии по месячно» [6, с. 124].
Другой проблемой было недостаточное количество учреждений для незаконнорожденных. В 1724 г. московская губернская канцелярия сообщала, что для содержавшихся за казенный счет 865 младенцев и 218 кормилиц не хватает помещений, им приходится жить «по разным местам» [7, с. 2]. В законодательстве 1720-х гг. нашла отражение проблема обучения воспитанников госпиталей для незаконнорожденных. В Указе от 20 января 1720 г. «О переводе из Олонецких Петровских заводов оружейных дел мастеров…» имелось лаконичное указание: «В Москве и прочих городах, где обретаются в устроенных домах незаконнорожденные и подкидыши в возрасте, таковых определять ко всяким художествам в ученики» [8, с. 205].
В законодательстве Петра I появились первые тенденции, направленные на развитие массового образования. Регламент или Устав Главного Магистрата (1721) содержал главу, посвященную развитию школ. В ней отмечалось, что «…академии и школы дело есть зело нужное для обучения народного…». Магистратам предписывалось «иметь старание» для содержания «…малых школ, в которых токмо читать, писать и арифметике обучатися будут» [9, с. 302]. Однако основные усилия государства в этот период были направлены на развитие образования для высших классов общества. Учебных заведений для широких слоев населения было создано немного: к концу правления Петра I во всей стране насчитывалось всего 110 начальных школ [10, с. 28].
В 1725–1762 гг. преемниками Петра I не вносилось существенных инноваций в социальное законодательство. Несколько законодательных актов подтверждали государственную политику воспитания и обучения незаконнорожденных детей. В частности, в Сенатском указе от 25 июля 1729 г. «О помещении незаконнорожденных, пришедших в возраст и обученных разным мастерствам на мануфактуры; об определении малоумных и увечных в богадельни и об отдаче годных в военную службу» шла речь о дальнейшем устройстве 46 воспитанников домов для незаконнорожденных Московской губернии. В указе содержалось и упоминание о госпиталях, учрежденных велением Петра Великого, и распоряжение предоставлять в Сенат информацию об их наличии, состоянии, количестве содержащихся там младенцев. Указ также предписывал предоставить данные о казенных расходах на госпитали, чтобы «…к предбудущему таких госпиталей содержанию определение учинить» [11, с. 220–221].
Нормам государственного обеспечения домов для воспитания незаконнорожденных был посвящен Указ от 22 января 1731 г. «О даче незаконнорожденным младенцам и кормилицам их, кормовых денег из Штатс-Конторы» [12, с. 367–368]. Необходимость государственного учета незаконнорожденных детей была отражена в ряде указов императрицы Елизаветы Петровны 1744–1741 гг. [13]. Однако некоторые современные авторы полагают, что, несмотря на сохранение законодательной основы призрения незаконнорожденных, на практике при преемниках Петра I эта работа государством фактически не осуществлялась. В частности, к такому выводу приходит Л.Н. Семенова, основываясь на замечании В.Н. Татищева о том, что сироты розданы на руки [14, с. 118–122].
Для характеристики законодательства Екатерины II 1762–1775 гг., направленного на социальную защиту молодежи, во многих отношениях показателен Манифест от 1 сентября 1763 г. «Об учреждении в Москве Воспитательного Дома, с особливым гошпиталем для неимущих родильниц». Подписанию манифеста предшествовало составление проекта и плана построения в Москве воспитательного дома. Документы были представлены генерал-поручиком И.И. Бецким. В Генеральном плане детально регламентировался порядок приема, содержания, обучения и трудового воспитания детей. В продолжение традиции анонимности, заложенной Петром I, у человека, принесшего младенца в воспитательный дом, предписывалось не спрашивать, кто он такой и чей это младенец. Кроме этого, при воспитательном доме учреждался специальный госпиталь, в который любая женщина могла поступить примерно за неделю до родов, разрешиться от бремени и оставить ребенка в воспитательном доме, сохраняя инкогнито.
Приносить младенцев можно было и приходским священникам, которым после передачи ребенка в воспитательный дом полагалось «за труд по два рубли».
По нашему мнению, анализ текста Генерального плана Воспитательного дома позволяет прийти к выводу, что он представлял собой не только проект создания конкретного социального учреждения, но и прообраз государственной программы развития сети учреждений социальной защиты.
В период 1764–1773 г. в Московский воспитательный дом поступило 9457 детей [15]. Естественно, это была ничтожная цифра для страны в целом. Но в то же время постепенно количество воспитательных домов, созданных по образцу московского, увеличивалось. В нескольких городах страны были открыты своеобразные филиалы, куда можно было приносить младенцев для их дальнейшего помещения в Московский воспитательный дом. В частности, Указом от 1 июля 1767 г. «Об отдаче Московскому Воспитательному дому, преждебывшего Архиерейского дома с церковью и двором в Нижнем Нов- городе, для приема в оный приносимых детей» был учрежден такой пункт приема детей в здании, принадлежавшем ранее церкви [16, с. 162].
В русле просвещенного абсолютизма Екатерина II уделяла большое внимание проблеме образования. «Учреждение для управления Губерний Всероссийской Империи» 1775 г. фактически заложило основу системы народного образования в России. Как считают современные исследователи, развитие народного образования и просвещения при Екатерине II было одним из главных направлений государственных усилий по модернизации российского общества.
Предписывалось открыть школы во всех городах, а затем и в «многолюдных селениях». Обучение в школах должно было проводиться добровольно, решение о том, отдавать ли детей в школу или оставлять дома, предоставлялось родителям. В оплате обучения прослеживался дифференцированный подход: устанавливалось правило – «чтоб неимущие могли учиться без платежа, а имущие за умеренную плату».
После смерти Екатерины II император Павел I именным указом Сенату передал Московский и Петербургский воспитательные дома под верховное начальство своей супруги Марии Федоровны [17, с. 604].
Закон «О положении для управления сиротскими домами, состоящими под ведением Приказов Общественного призрения», принятый 31 декабря 1836 г., детализовал порядок приема детей на воспитание. Согласно ему, полагалось принимать детей в возрасте 7–11 лет, с обязательным врачебным свидетельством о состоянии здоровья и наличии прививки от оспы [18, с. 335–353].
Постоянный недостаток средств отрицательно сказывался на возможностях социальных учреждений. В воспитательных домах постоянно не хватало мест, поэтому многих поступавших туда детей отправляли на воспитание в деревни, в так называемые «экспедиции», где условия содержания были гораздо хуже, чем в воспитательных домах. В начале XIX в. при Московском воспитательном доме существовало 10 деревенских экспедиций, при Петербургском – 6. Но и в воспитательных домах ситуация была очень тяжелой. Об этом свидетельствует высокая смертность среди воспитанников. Так, в Московском воспитательном доме ежегодная смертность детей постоянно росла и составляла от 30 до 50 % (1797 г. – 34,4 %, 1800 г. – 34,8 %, 1810 г. – 42,8 %, 1820 г. – 49,6 %) [19, с. 63, 66].
В период буржуазных реформ 1860–70-х гг. правительственные круги признавали, что наиболее острой проблемой в образовательной сфере является внедрение общедоступной системы народного образования. Регламентированное законодательством участие земств «в попечении о народном образовании», хотя и ограниченное в основном хозяйственной миссией, позволило увеличить число школ для беднейших слоев населения. В 1877 г. общее количество земских школ в стране составляло около 10 тыс., к 1903 г. оно увеличилось до 18 700 тыс. [20, с. 476].
Ссылки:
-
1. Симонова С.С., Олейникова Е.Г. Социальные приоритеты в программах политических партий России // Философия социальных коммуникаций. 2012. № 4 (21).
-
2. Полное собрание законов Российской империи (Далее – ПСЗРИ). Собрание первое. Т. IV. № 2467.
-
3. Там же. № 2856.
-
4. Там же. № 2953.
-
5. Лавров А.С. Епархиальные власти и призрение сирот в России в первой трети XVIII века (к постановке вопроса) // Отечественная история. 2008. № 3.
-
6. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VI. № 3502.
-
7. Лобачев В. Частная жизнь подданных // Наука и религия. 2003. № 4.
-
8. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VII. № 4421.
-
9. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VI. № 3708.
-
10. Благотворительность в России. Т. 1. СПб., 1902.
-
11. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VIII. № 5452.
-
12. Там же. № 5679.
-
13. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XII. № 8966. С. 141–144 ; № 9011. С.191–192 ; № 9056. С. 252–253 ; № 9065. С. 260–261 ; № 9343. С. 619–623 ; Т. XV. № 10896. С. 280–282.
-
14. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. Л., 1982.
-
15. Бобровников В.Г., Кидалов А.Н. Воспитательные дома России (1763–1917 гг.) [Электронный ресурс]. URL: http://рустрана.рф/article.php?nid=23952 (дата обращения: 24.08.2013).
-
16. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XVIII. № 12.926.
-
17. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXIV. № 17.952.
-
18. ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XI. Часть 2. № 9816.
-
19. Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. Т. 1. Ч. 2. Благотворительность государственная. СПб., 1902.
-
20. Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. 1–4. СПб., 1909–1911.
Список литературы Государственное управление социальными процессами в России: проблемы социальной защиты детей и молодежи (ретроспективный анализ)
- Симонова С.С., Олейникова Е.Г. Социальные приоритеты в программах политических партий России//Философия социальных коммуникаций. 2012. № 4 (21).
- Полное собрание законов Российской империи (Далее ПСЗРИ). Собрание первое. Т. IV. № 2467.
- Там же. № 2856.
- Там же. № 2953.
- Лавров А.С. Епархиальные власти и призрение сирот в России в первой трети XVIII века (к постановке вопроса)//Отечественная история. 2008. № 3.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VI. № 3502.
- Лобачев В. Частная жизнь подданных//Наука и религия. 2003. № 4.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VII. № 4421.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VI. № 3708.
- Благотворительность в России. Т. 1. СПб., 1902.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. VIII. № 5452.
- Там же. № 5679.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XII. № 8966. С. 141-144; № 9011. С.191-192; № 9056. С. 252-253; № 9065. С. 260-261; № 9343. С. 619-623; Т. XV. № 10896. С. 280-282.
- Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. Л., 1982.
- Бобровников В.Г., Кидалов А.Н. Воспитательные дома России (1763-1917 гг.) [Электронный ресурс]. URL: http://рустрана.рф/article.php?nid=23952 (дата обращения: 24.08.2013).
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XVIII. № 12.926.
- ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXIV. № 17.952.
- ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XI. Часть 2. № 9816.
- Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. Т. 1. Ч. 2. Благотворительность государственная. СПб., 1902.
- Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. Т. 1-4. СПб., 1909-1911.