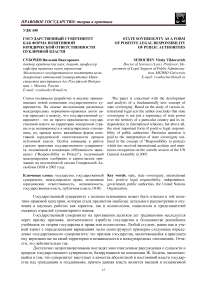Государственный суверенитет как форма позитивной юридической ответственности публичной власти
Автор: Субочев Виталий Викторович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена разработке и анализу принципиально новой концепции государственного суверенитета. На основе исследования различных международных нормативно-правовых актов автор приходит к выводу, что государственный суверенитет - это не просто верховенство государственной власти на территории конкретной страны и ее независимость в международных отношениях, но, прежде всего, важнейшая форма позитивной юридической ответственности органов публичной власти. Особое внимание в работе уделено трактовке государственного суверенитета, изложенной в концепции «Обязанность защищать» (“Responsibility to Protect”), получившей международное одобрение и единогласное признание на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.
Государство, государственный суверенитет, международное право, позитивная юридическая ответственность, независимость, государственная власть, публичная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/142233806
IDR: 142233806 | УДК: 340
Текст научной статьи Государственный суверенитет как форма позитивной юридической ответственности публичной власти
Государственный суверенитет с полным основанием может быть отнесен к той политико-правовой категории, которая стала предметом наиболее детального рассмотрения и изучения в научных работах как юристов, так и политологов, социологов и представителей смежных отраслей гуманитарного знания.
Государственный суверенитет на протяжении десятков лет традиционно исследуется через призму признака, неотъемлемого атрибута государства в большинстве российских учебников по теории государства и права или политологии. Любой студент, равно как и ученый юрист с определенными вариациями легко сконструирует примерно следующее определение государственного суверенитета: это признак государства, заключающийся в присущем ему верховенстве на своей территории и независимости в международных отношениях. Отчасти, это действительно так.
Достаточно непротиворечивыми выглядят многочисленные рассуждения о сущности и природе государственного суверенитета, базирующиеся на концепции Ж. Бодена, заключающейся в том, что суверенитет выступает в качестве абсолютной и постоянной власти государства над гражданами и подданными, причем данная власть является высшей и независимой

властью как внутри страны, так и в отношениях с другими государствами, выше которой – только Бог и законы природы [7, с. 227].
Даже в условиях глобализации суверенитет государства многими учеными признается именно признаком государства [5], выражающим верховенство государственной власти по отношению ко всем иным организациям и лицам в стране и независимость ее в сфере взаимоотношений данного государства с другими государствами [13, с. 80].
В.В. Красинский, наряду с другими учеными, подчеркивает, что «анализ юридической доктрины и понятийно-категориального аппарата современной теории государственного суверенитета позволяет сделать вывод о том, что государственный суверенитет непосредственно выражает сущность государственной власти через ее суверенные свойства - верховенство и независимость» [6, с. 8].
Нельзя не согласиться и с позицией Н.И. Матузова и А.В. Малько, заключающейся в том, что государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела государства. «Если какое бы то ни было иностранное государство или внешняя сила нарушают границы данного государства или заставляют его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, то говорят о нарушении его суверенитета. А это явный признак слабости данного государства и его неспособности обеспечить собственный суверенитет и национально-государственные интересы» [10, с. 53].
Признавая обоснованность указанных выше точек зрения, тем не менее, считаем необходимым подчеркнуть, что настало время серьезной корректировки традиционной концепции государственного суверенитета, кардинального изменения угла зрения, под которым данный термин рассматривается в научных исследованиях и в выступлениях российских политиков различного уровня. Устав ООН содержит многочисленные положения, подчеркивающие уважение к суверенитету любого государства, вне зависимости от его территории и уровня экономического развития. В частности, в п. 4 ст. 2 Устава содержится положение, согласно которому «все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций» [14].
Данное положение получило свое развитие в значительном количестве важнейших международных документов. В частности, в принятой резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1981 года Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств прямо говорится о суверенном и неотъемлемом праве государства свободно определять свою собственную политическую, экономическую, культурную и социальную систему, развивать свои международные отношения и осуществлять неотъемлемый суверенитет над своими природными ресурсами в соответствии с волей его народа без внешней интервенции, вмешательства, подрывной деятельности, принуждения или угрозы в какой бы то ни было форме [3].
Тем не менее, анализ международных документов с убедительностью свидетельствует о том, что, несмотря на то, что термин «государственный суверенитет» используется, чтобы действительно подчеркнуть самостоятельность и независимость государств, он не представляет собой право любого государства на исключительную и неограниченную власть на своей территории. Так, масштабные трагические события конца XX века, лишь к некоторым из которых можно отнести этнические чистки в Руанде, жертвами которых стали около миллиона человек, межнациональные конфликты на Балканах, унесшие, по самым скромным подсчетам, жизни более чем 150 тысяч человек, подтолкнули международное сообщество к обсуждению вопроса о возможности принятия скоординированных военных мер в тех случаях, когда вопросы защиты прав и свобод человека не терпят отлагательств.
Другими словами, на повестку дня был вполне справедливо поставлен вопрос о том, обладают ли государства безусловным суверенитетом на своей территории или же данный 16
суверенитет может быть ограничен правом других государств и международного сообщества в целом провести военную операцию или гуманитарную интервенцию ради сохранения многочисленных жизней. Для решения этого вопроса в 2000 г. под эгидой ООН была создана Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета, которой была предложена, по сути, новая концепция государственного суверенитета, получившая название «Обязанность защищать» («The responsibility to protect»).
В 2002 году данная комиссия представила доклад на имя Генерального секретаря ООН, в пункте 2.12 которого подчеркивается, что ООН является организацией, преследующей цели поддержания мира и безопасности на основе защиты территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета своих государств-членов. Однако преобладающее большинство вооруженных конфликтов являются внутренними, а не межгосударственными, а доля гражданских лиц, погибших в них, возросла к концу XX в. с одного из десяти до девяти из десяти человек, что ставит перед ООН трудноразрешимую задачу: гарантирования фундаментальных для ООН принципов суверенитета государств-членов с одновременным обеспечением защиты интересов и содействием благополучию людей в этих государствах. Решение данной задачи члены комиссии увидели в новой концепции государственного суверенитета: суверенитета не как власти, а как ответственности в отношении как внутренних функций, так и внешних обязанностей [11].
Мы считаем, что подобная постановка вопроса справедливо и своевременно трансформирует понимание государственного суверенитета от властных проявлений государства над конкретной территорией и его независимости в международных отношениях к пониманию суверенитета как формы позитивной юридической ответственности публичной власти.
Полагаем, что позитивный аспект юридической ответственности следует усматривать в добросовестном исполнении субъектами правоотношений возложенных на них обязанностей, в стремлении разумно использовать важнейшие правовые дозволения – субъективные права, свободы и законные интересы [8, с. 70–80]. Следует согласиться с Н.И. Матузовым, подчеркивающим, что позитивная ответственность в отличие от негативной, не временная и не принудительная, а постоянная (перманентная), добровольная и глубоко осознанная ответственность за принимаемые решения и результаты этих решений в настоящем и будущем, за надлежащее исполнение своих юридических обязанностей [9, с. 208]. Мы полностью разделяем и позицию А.В. Чепуса, заключающуюся в том, что понятие позитивной юридической ответственности не может быть оторвано от понятия социальной ответственности, а сама позитивная юридическая ответственность выступает важнейшей характеристикой действий субъектов права [15, с. 59–63].
На наш взгляд, именно о позитивной юридической ответственности государств идет речь, в частности, в пункте 2.15 упомянутого выше доклада, в котором говорится, что концепция суверенитета именно как ответственности имеет тройное значение: во-первых, она подразумевает, что власти государства несут ответственность за осуществление функций безопасности граждан и содействие их благополучию; во-вторых, из нее следует, что национальные политические власти несут ответственность внутри страны перед гражданами, а через ООН – перед международным сообществом; в-третьих, она означает, что представители государства несут ответственность за свои деяния, т.е. их можно привлечь к ответу и за их действия, и за бездействие [1].
В данном случае налицо признаки не просто позитивной социальной ответственности, а ответственности именно юридической, которая предполагает добросовестное исполнение органами публичной власти своих функций, предполагающих охрану и защиту как прав и свобод, так и законных интересов своих граждан [12]. Это и есть ответственность за надлежащее и правомерное поведение.
Обозначенные положения концепции «Обязанность защищать» нашли свое дальнейшее развитие и практическое воплощение. К примеру, они были отражены в итоговом докладе Группы высокого уровня в 2004 г., созданной Генеральным секретарем ООН К. Аннаном 17
для реагирования на нестабильность сосуществования исламского и западного обществ и возрастающие в связи с этим акты терроризма и экстремизма по всему миру.
В итоге, концепция суверенитета как формы позитивной юридической ответственности публичной власти была признана на самом высоком уровне. Так, 14–16 сентября 2005 г. в Нью-Йорке состоялась шестидесятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой присутствовали главы более чем 170 государств и которые единогласно признали принцип «обязанности защищать» в качестве неотъемлемой характеристики государственного суверенитета.
В пунктах 138 и 139 Итогового документа Саммита подчеркивается, что «каждое государство обязано защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Эта обязанность влечет за собой необходимость предотвращения таких преступлений, в том числе подстрекательств к ним, путем принятия соответствующих и необходимых мер. Мы признаем нашу ответственность в этом отношении и будем действовать в соответствии с ней. Международное сообщество должно принять соответствующие меры для того, чтобы содействовать и помогать государствам в выполнении этой обязанности» [4]. В резолюции также подчеркивается, что мировое сообщество оставляет за собой право предпринять коллективные действия, предполагающие военное вмешательство и гуманитарные интервенции «с учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими региональными организациями, в случае необходимости, если мирные средства окажутся недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в состоянии защитить свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности» [4].
Исключительно реализации концепции «Обязанность защищать» был посвящен доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2009 г., в котором, несмотря на заверения в том, что обязанность защищать является «союзником», а не «противником» суверенитета и возникает из позитивного и конструктивного понятия «суверенитет как ответственность», идет речь о том, что международное сообщество все-таки призвано и обязано оказывать помощь государствам в выполнении их соответствующих обязательств перед населением.
«Обязанность защищать», подчеркивается в докладе, это, в первую очередь, обязанность государства и его органов публичной власти по защите своего населения, которая является одним из определяющих атрибутов суверенитета и самой государственности в XXI веке. В пункте 20 доклада прямо говорится о том, что «для того чтобы принципы, лежащие в основе обязанности защищать, действовали в полном объеме и были жизнеспособными, их необходимо без колебаний и условий интегрировать в каждую культуру и каждое общество, чтобы в них нашли свое отражение не только глобальные, но и местные ценности и стандарты» [2].
Изложенное выше позволяет сформулировать следующие выводы.
Так, мы полагаем не в полной мере обоснованным трактовать государственный суверенитет лишь как верховенство государственной власти на территории конкретной страны и ее независимость в международных отношениях. Суверенитет – это, прежде всего, форма позитивной юридической ответственности публичной власти, которую она несет как перед населением конкретного государства, так и перед мировым сообществом в целом.
Исходя из сказанного, считаем, что государственный суверенитет – это форма позитивной юридической ответственности органов публичной власти, проявляющаяся в верховенстве государственной власти внутри страны и независимости государства в международных отношениях.
Суверенитет государства в отдельных случаях может и должен быть ограничен международным сообществом в целях предотвращения этнических чисток, различных видов вооруженных столкновений внутри страны, способных привести к массовой гибели мирного населения. При этом крайне актуальным и не решенным до настоящего времени остается вопрос о достаточных основаниях и пределах подобного вмешательства.
Список литературы Государственный суверенитет как форма позитивной юридической ответственности публичной власти
- https:/documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/525/72/IMG/N0252572.pdf? OpenElement (дата обращения: 02.05.2016).
- Выполнение обязанности защищать. Доклад Генерального секретаря ООН А/63/677 от 12 января 2009 г. URL: https:/documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/12/ PDF/ N0920612.pdf?Open Element (дата обращения: 02.05.2016).
- Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. Принята резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года. URL: http:/www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl. shtml (дата обращения:: 02.05.2016).
- Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/1. URL: http:/docs.cntd.ru/document/902131568 (дата обращения: 02.05.2016).
- Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. СПб., 2012.
- EDN: TXBUQZ