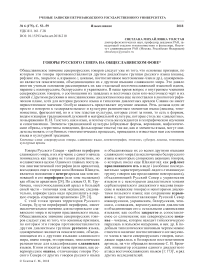Говоры русского севера на общеславянском фоне
Автор: Толстая Светлана Михаиловна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 6 (175), 2018 года.
Бесплатный доступ
Общеславянское значение севернорусских говоров следует уже из того, что основные признаки, по которым эти говоры противопоставляются другим диалектным группам русского языка (оканье, рефлекс ять, закрытое о, взрывное г, цоканье, постпозитивное местоимение-член и др.), одновременно являются показателями, объединяющими их с другими языками славянского мира. Это давало многим ученым основание рассматривать их как отдельный восточнославянский языковой идиом, наравне с южнорусским, белорусским и украинским. В наше время вопрос о внутреннем членении севернорусских говоров, о соотношении их западных и восточных (или юго-восточных) черт и их связей с другими русскими и инославянскими диалектами пока еще не поставлен в лингвогеографическом плане, хотя для истории русского языка и типологии диалектных ареалов Славии он имеет первостепенное значение. Особую важность представляет изучение лексики. Речь должна идти не просто о повороте к «содержательным» и культурно релевантным элементам языка (лексике, топо-номастике, фразеологии), но и к тем пластам культуры, которые стоят за ними, то есть к формам, видам и жанрам традиционной духовной и материальной культуры, которые столь же «диалектны», по выражению Н. И. Толстого, как и язык, и потому столь же нуждаются в географическом изучении и сопоставлении. Элементы традиционной культуры (обрядовые формы, верования, мифологические образы, стереотипы поведения, фольклорные тексты) так же, как и элементы языка, могут свидетельствовать о глубинных этногенетических процессах, приведших к известным нам состояниям языка и культурной традиции.
Севернорусские говоры, славянские языки, лингвогеография, этногенез, субстрат, лексика, топонимия, культурные ареалы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226339
IDR: 147226339 | УДК: 811.161.1''28
Текст научной статьи Говоры русского севера на общеславянском фоне
Говоры Русского Севера – крайняя периферия славянского мира, и их изучение с самого начала понималось как задача не только русистики, но и славистики в целом. Одним из главных постулатов лингвистической географии (или ареалогии), восходящих еще к теории волн Иоганна Шмидта, является положение о центре ареала как зоне инноваций и его периферии (или зоне экспансии) как области архаизмов [24]. По словам О. Н. Трубачева, «восточнославянский ареал в большей своей части - типичная зона экспансии; следовательно, априори здесь надо предполагать в первую очередь сохранение архаизмов» [29: 21].
С этой точки зрения территория Русского Севера, будучи периферией периферии, имеет исключительное значение для истории всего славянского мира и истории праславянского языка. Общеславянское значение севернорусских говоров следует уже из того, что основные признаки, по которым эти говоры противопоставляются другим диалектным группам русского языка, одновременно являются показателями, объединяющими их с другими языками славянского мира, иначе говоря, это признаки, типологически релевантные для классификации славянских языков. К ним относятся такие признаки, как севернорусское оканье , отличающее говоры Русского Севера от других говоров русского языка
и объединяющее их со всеми другими языками славянского мира (за исключением белорусского языка и некоторых словенских акающих говоров, о которых писал еще Шахматов); как рефлекс праславянского ять в виде i (особенно последовательно характеризующий ладого-тихвинскую группу говоров как продолжение новгородских), объединяющий Русский Север с украинским языком и с некоторыми диалектными зонами сербскохорватского диалектного массива (икав-ские и иекавские говоры) и некоторыми диалектами польского языка; как сохранение взрывного г , противопоставляющее Русский Север южнорусским, украинским, белорусским, чешским, словацким, верхнелужицким диалектам и объединяющее его с остальными славянскими языками; как особое закрытое о , сопоставляемое со словенским; как севернорусское цоканье – чоканье, которое находит типологическую параллель в польском мазурении, и нек. др. К подобным типологически значимым чертам можно отнести и наличие постпозитивного согласуемо-го члена в части севернорусских говоров, находящее параллель в болгарском постпозитивном артикле, на что обращали внимание С. В. Бромлей, инициатор создания единого диалектного атласа восточнославянских языков [1: 173]1, и ряд других исследователей.
Эти типологические характеристики севернорусской диалектной зоны давали многим ученым основание рассматривать ее как отдельный восточнославянский языковой идиом, наравне с южнорусским, белорусским и украинским. Вот как понимал это академик Шахматов:
Было время, и притом достаточно продолжительное, когда предки всех русских, т. е. великорусов, малорусов и белорусов, составляли один язык. Конечно, как всякий язык, и в особенности язык, занявший более или менее обширную площадь, он представлял внутри себя диалектные разновидности, но эти разновидности только позже прикрепились к тем племенным делениям, которые легли в основание позднейшего распадения единого русского племени на четыре племенные группы – малорусскую, белорусскую, южновеликорусскую и северновеликорусскую [33: 48]2.
Ученик Шахматова Д. К. Зеленин также считал, что восточнославянские языки делились не на три, а на четыре крупных языковых идиома – северновеликорусский, южновеликорусский, украинский и белорусский [27].
Известный польский славист Т. Лер-Спла-виньский посвятил вопросу восточнославянского глоттогенеза специальную работу, в которой утверждалось, что в древнерусском в период до начала письменности существовали два диалекта: северный, охватывающий в основном область новгородского культурного влияния, и южный, включающий в себя все остальные части восточнославянской языковой области, и что отличия северновеликорусского наречия от южновеликорусского древнее, чем различия между великорусским и украинским [37; цит. по 30: 146].
С этой точкой зрения солидаризировался Н. С. Трубецкой [30]3. Аналогичную мысль высказывал Н. Н. Дурново:
Рассматривая особенности в.-р. языка и его наречий, мы можем заметить, что общие черты в.-р. наречий, объединяющие их в один в.-р. язык и отличающие в.-р. язык от других русских языков, новее, чем черты, характеризующие каждое из этих наречий (с.-в.-р. и ю.-в.-р.) в отдельности, и что процесс слияния их в один язык продолжается до сих пор. Наоборот, индивидуальные особенности с.-в.-р. и ю.-в.-р. наречий, как, например, цоканье в с.-в.-р., аканье и фрикативное г в ю.-в.-р., старше эпохи образования в.-р. яз. и указывают на то, что раньше отношение между этими наречиями было другое; так, можно думать, что то др.-р. наречие, из которого потом получилось ю.-в.-р. наречие, еще до образования в.-р. языка одно время было тесно связано с наречием, позднее образовавшим б.-р. язык или вошедшим в состав б.-р. языка, что еще раньше это наречие могло жить общей жизнью с предками и б.-р. и м.-р. языков ( г фрикативное!), отделившись от севернорусского наречия [7: 97].
Важность всех этих работ именно в общеславянском взгляде на развитие русского и других славянских языков как на единый процесс, подчиненный общей логике и общим моделям развития праславянского языка, но не прямолинейный в духе родословного древа, а сложный, предпола- гающий разновременные сепаратные отношения между разными праславянскими диалектами.
Обращаясь к этим взглядам классиков русистов и славистов, мы должны считаться с тем, что базой для их концепций могли быть в начале и первой половине XX века прежде всего данные письменных памятников и во вторую очередь разрозненные и неполные данные современных славянских диалектов (причем в основном касающиеся звуковой стороны). В настоящее время наука располагает несравненно более богатыми и полными данными - существуют национальные и региональные атласы разных типов, Общеславянский лингвистический атлас, диалектные, исторические, этимологические словари, картотеки диалектных материалов, исследования отдельных диалектов и частных вопросов диалектных систем. Это в полной мере относится и к севернорусским говорам. Исследователи говоров Русского Севера в наши дни имеют в своем распоряжении богатейшие источники - фундаментальные областные словари, существенно дополняющие сводный Словарь русских народных говоров, – словарь русских говоров Карелии, архангельский, вологодский, печорский, вятский, новгородский диалектные словари, екатеринбургский словарь говоров Русского Севера и др. Особо следует отметить первый опыт картографирования в севернорусской диалектологии - замечательный лексический атлас Архангельской области Лидии Павловны Комягиной [12], тем более важный, что значительная часть этой области не вошла в границы ДАРЯ [6], а также топонимические карты А. К. Матвеева [15] и атлас С. А. Мызникова, показывающий распространение финно-угорских элементов на территории русского Северо-Запада [17]. Севернорусские говоры, как известно, удостоились даже собственного этимологического словаря [4]. Для общерус -ского, восточнославянского и общеславянского фона можно воспользоваться материалами ДАРЯ [6], серии «Восточнославянские изоглоссы» [3], диалектных атласов украинского [34] и белорус -ского языков [35], [36] и др., вышедших томов «Общеславянского лингвистического атласа [18] и др.
На протяжении многих лет (начиная с 1969 года) исследования по севернорусским говорам публиковались в специальном издании «Севернорусские говоры» под ред. А. С. Герда [20]; большое место говорам Русского Севера уделяется и в выпусках серии «Лексический атлас русских народных говоров» [14], в некоторых выпусках «Вопросов русского языкознания» (МГУ), в серии «Этимологические исследования» (Свердловск - Екатеринбург) и «Ономастика и диалектная лексика» (Екатеринбург) и других изданиях по русской диалектологии. Существует, помимо этого, целая библиотека специальных лексикологических исследований – книг или серий статей, выполненных представителями разных научных центров, занимающихся Русским Севером (Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Вологды, Петрозаводска и др.) и посвященных отдельным тематическим группам лексики: географической терминологии и топонимии, мифологической, метеорологической, календарной лексике, лексике пищи и одежды, абстрактной лексике и лексике многих других тематических групп. Продолжаются многолетние полевые исследования в разных районах Русского Севера - диалектологические экспедиции, собирающие материал по фонетике, грамматике, лексике, ономастике, а также по народной культуре и фольклору (например, экспедиции Московского, Петербургского университетов, Уральского университета, экспедиции РГГУ в Каргополье и др.). Наиболее продвинутой областью в изучении Русского Севера оказалась топонимия (не только субстратная), на протяжении десятилетий собиравшаяся на всей территории и в отдельных зонах силами екатеринбургских, петербургских, петрозаводских, вологодских, новгородских топонимистов, получившая систематическую интерпретацию со стороны структурной, исторической, этимологической, ареалогической.
Накопленный в этих источниках материал поистине необозрим, и он широко используется в самых разных исследованиях по истории русского языка, исторической диалектологии, этимологии, сравнительной лексикологии и семасиологии. Проблематика севернорусских диалектов столь значима для истории русского и восточнославянских языков, а также для общеславянских этноязыковых реконструкций, что эта область исследований фактически составляет особую славистическую дисциплину, которой, однако, в настоящее время не хватает осознания своих задач и возможностей.
Эти особые задачи связаны прежде все -го с анализом и интерпретацией накопленных данных. Русский Север как диалектная область, границы которой до сих пор понимаются по-разному, как известно, неоднороден, он сформировался на основе трех главных источников: 1) новгородской колонизации, 2) «низовского» заселения (ростово-суздальского) и 3) субстратного финно-угорского элемента; все эти составляющие до сих пор в той или иной степени определяют его ареальную картину. В последние десятилетия большое внимание уделялось изучению субстрата и особенно субстратной топонимии (работы А. К. Матвеева и его топонимической школы, С. А. Мызникова, петрозаводских диалектологов и др.), и в этом отношении достигнуто значительное продвижение (см. обзор Н. В. Каби-ниной [11]). Вопрос же о внутреннем членении севернорусских говоров и соотношении их западных и восточных (или юго-восточных) черт и их связей с другими русскими и инославянскими диалектами пока еще не поставлен в лингвогеографическом плане, хотя для истории русского языка и типологии диалектных ареалов Славии он имеет первостепенное значение.
Если посмотреть на карты ОЛА [18] или ДАРЯ [6], то Русский Север очень редко выделяется на общерусском фоне как некий особый ареал. Чаще всего он входит в более обширный великорусский ареал или членится условно на западную (меньшую) и восточную (большую) части, первая из которых имеет продолжение на территории новгородских (иногда и далее - псковских, северно-белорусских) диалектов, а вторая нередко продолжается далеко на юго-восток4. Границы между разными частями севернорусских говоров очень нечетки и постоянно изменяются. Влияние южнорусского типа на севернорусский (в соответствии с направлением экспансии) имеет постоянный характер5.
Особенно непростым оказывается вопрос о западном (новгородском) элементе русских говоров Севера. Он вновь стал актуальным в связи с изучением новгородских берестяных грамот и реконструкцией А. А. Зализняком древненовгородского диалекта [9], [10]. По мнению А. А. Зализняка, анализ берестяных грамот и ряда других памятников (пергаменных грамот, летописей) и современных диалектологических данных позволяет заключить, что в древней Новгородской земле отчетливо различались западные говоры (соотносимые с псковскими кривичами) и восточные (соотносимые с ильменскими сло-венами). Сам Новгород и прилегающие к нему районы находился в зоне контакта этих двух групп говоров. Этот контакт начался не позднее IX в. и был весьма интенсивен; соответственно, на протяжении нескольких веков здесь складывался особый смешанный тип говоров, в котором соединился ряд важнейших западных черт с некоторыми восточными. Именно он отражен в подавляющем большинстве берестяных грамот и может быть обозначен как древненовгородский диалект в узком смысле слова. В период независимости древненовгородского государства этот диалект, по-видимому, приобрел также функции общеновгородского койне, т. е. мог в той или иной мере использоваться во всех областях государства (в особенности в городах) [9: 165].
Можно думать, что как раз этот «смешанный диалект» лег в основу западной части говоров Русского Севера, сформировавшихся в результате новгородской колонизации. Вопрос о том, как соотносились и соотносятся западно- и восточноновгородские черты в севернорусских говорах, требует более подробного изучения, как, впрочем, и вопрос о более четкой лингвогеографической картине Русского Севера в целом6.
Русский Север часто и с полным основанием рассматривается как заповедник общеславянской и восточнославянской архаики. Это касается не только фонетических и грамматических черт, которые более или менее изучены, но и лексических особенностей севернорусских говоров, которые изучены гораздо хуже. К такого рода лексическим и семантическим архаизмам относятся, например, такие лексемы, как жира ‘жизнь’, орать ‘пахать’, мова ‘язык, речь’ и мо-вить ‘говорить’ (с укр.-бел. и з.-слав. соответствиями), ратиться ‘биться, сражаться’ (ср. с.-х. рат ‘война’), плести ‘вязать’ (с ю.-слав. соответствиями), жито ‘ячмень’, гроб ‘могила’ (имеющее соответствие в з.-слав. и ю.-слав. ареалах), губа ‘гриб’ (с чешско-словацкими, словенскими и болгарскими параллелями), смола ‘молозиво’, сера ‘молозиво’ (с польскими и ю.-слав. соответствиями), кора ‘кожура картошки’ (с соответствиями в ю.-слав. языках), тина ‘ботва картофеля’, кожа ‘пенка на молоке’ (cо словацкими и редкими ю.-слав. соответствиями), паужина ‘полдник’, простой ‘пустой’, гуга-ло ‘качели’, ималки ‘жмурки’, пушить ‘курить’ (с ю.-слав. соответствиями), чистить ‘корчевать лес’ (с единичными словенскими соответствиями), броснуть ‘обрывать листья, очищать лен и т. п.’, пчельник ‘пасека’ (с соответствиями в Закарпатье и некоторых других украинских говорах) и многие другие. Явления такого рода могут в той или иной мере выходить за границы с.-рус. ареала (в южном или юго-вост. направлении), как, например, погост ‘кладбище’, суягная [овца] (противопоставленное ю.-рус. котная), [собака] лает, творить ‘замешивать тесто’ и др., но исконно, по-видимому, принадлежат именно ему. Каталогизация и интерпретация (историческая, типологическая и ареальная) подобных архаизмов и архаических зон Русского Севера остается насущной задачей для отечественных диалектологов и славистов. Можно надеяться, что создаваемый сейчас «Лексический атлас русских народных говоров» даст новый материал и послужит стимулом для исследований севернорусской лексики в общерусском и общеславянском плане7.
До сих пор лексика совершенно недостаточно использовалась в изучении вопросов этногене -тической направленности. О значении лексики для исследований в области происхождения пра-славянского языка и его реконструкции писал В. Н. Топоров:
…наибольший прогресс в лингвистическом аспекте этих исследований (реконструкции праславянского языка. – С. Т. ) связан с изучением тех языковых элементов, которые с преимущественной непосредственностью отсылают (и потому могут рассматриваться как своего рода индексы или – при другом подходе – как тексты) к особенностям структуры пространства, времени, типа культуры, – словарь, особенно топономастические элементы, «культурные» слова, заимствования и т. п. Именно в этой перспективе находит объяснение то особое значение, которое придается теперь составлению словарей (этимологических, исторических, диалектных) и собиранию топономастического материала, решительно потеснившим «грамматические» исследования (включая, разумеется, и фонетические), преобладавшие в течение длительного предыдущего периода [28: 265].
Речь должна идти, таким образом, не просто о повороте к «содержательным» и культурно- релевантным элементам языка (лексике, топо-номастике, фразеологии), но и к тем пластам культуры, которые стоят за ними, то есть к формам, видам и жанрам традиционной духовной и материальной культуры, которые столь же «диалектны», по выражению Н. И. Толстого [25: 21], как и язык, и потому столь же нуждаются в географическом изучении и сопоставлении. Элементы традиционной культуры (обрядовые формы, верования, мифологические образы, стереотипы поведения, фольклорные тексты) так же, как и элементы языка, могут свидетельствовать о глубинных этногенетических процессах, приведших к известным нам состояниям языка и культурной традиции.
В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» [21], созданном по замыслу Н. И. Толстого и обобщившем материал всех славянских языков и культурных традиций, севернорусские факты занимают очень значительное место и так же, как и факты языка, демонстрируют связи, иногда сепаратные, между Русским Севером и другими регионами Славии. В фундаментальном этнолингвистическом исследовании славянского свадебного обряда А. В. Гуры [5] убедительно показано, что целый ряд признаков (обряд типа свадьба-похороны, отсутствие коровая, свадебного деревца в западной части с.-в.-р. ареала и др.) выделяет севернорусский свадебный обряд не только на восточнославянском, но и на общеславянском фоне. Н. И. Толстой, изучавший деревянные антропоморфные надгробия у славян, обнаружил «изопрагму», идущую от юго-вост. Болгарии через с.-зап. Болгарию, запад Сербии, украинские Карпаты, Полесье и далее на крайний Русский Север (Мезень), где сходные с надгробиями формы имели прялки [25: 211–212]. Существование этого (часто прерывистого) пояса, связывающего «псковско-новгородский узел (а иногда и русский Север) с Полесьем, Карпатами и славянским Югом, а иногда и со славянским Западом (чаще всего с кашубами и лужицкими сербами)» [26: 262], подтверждается целым рядом лексических изоглосс, в частности, географией праславянского слова *dęga, *dęgati , известного в архангельских, новгородских и псковских говорах в виде глагола дягнуть ‘крепнуть, набирать силу, расти’, далее на Могилевщине, в Полесье, а также у кашубов, у южных славян в разных значениях, производных от исходного значения ‘сила’ или ‘пояс (как символ физической мощи)’ [26: 263–265]. Подобные культурные схождения, поддержанные языковыми параллелями, обнаруживаются во многих сферах традиционной культуры. Богатое фольклорное наследие Русского Севера, начиная от былин, причитаний (свадебных и похоронных), заговоров и кончая поверьями, запретами, предписаниями, загадками, все еще ожидает своего изучения в общерусском и общеславянском контексте.
В солидном этнографическом труде «Русский Север», подготовленном коллективом Института этнологии и антропологии РАН под редакцией И. В. Власовой [19], сделана попытка выделить локальные варианты отдельных форм материальной и духовной культуры на основании большого числа культурно значимых признаков. Для многих явлений удалось определить ареалы и границы в пределах огромной территории Русского Севера (исследование охватывало бывшую Вологодскую губернию). Признавая важность установления ареальных противопоставлений и связей, главную задачу авторы все же видели в подтверждении общности культурной традиции Русского Севера. Эту общность невозможно отрицать, однако сегодняшняя оснащенность севернорусских исследований богатыми материа- лами – этнографическими, фольклорными, лингвистическими, а также историческими трудами и антропологическими наблюдениями – ставит перед исследователями дальнейшие задачи более дифференцированного и более подробного, в том числе ареалогического (картографического), изучения культуры Русского Севера во всех ее формах и аспектах. Нужны новые словари, общие и частные, идеографические и специальные – диалектные, ономастические, фразеологические, этимологические, терминологические, этнографические, обрядовые, мифологические, фольклорные и новые атласы – региональные8, локальные, всякие. Только на их основании наука о Русском Севере обретет свой прочный фундамент как ветвь общеславянского гуманитарного знания.
* Статья написана в рамках работы над проектом «Славянские архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвистические исследования», поддержанным грантом РНФ (№ 17-18-01373).
Матвеев А . К . К проблеме лингвистического изучения юго-восточной части Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург, 1998. Вып. II. С. 3–9.
М ы з н и к о в С . А . Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2003. 360 с. (2-е изд. 2007. 395 с.).
Топоров В . Н . К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М.: Наука, 1988. С. 264–292.
Тр у б ач е в О . Н . Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987. С. 17–28.
Тр у б е ц к о й Н . С . О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства (1925) // Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. С. 143–167.
Ф и л и н Ф . П . Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972. 655 с.
Атлас української мови (АУМ). Київ: «Наукова думка», 1988–2001. Т. 1–3.
Дыялекталагiчны атлас беларускай мовы (ДАБМ). Мiнск, 1961. Кн. 1, 2.
Лексiчны атлас беларускiх народных гаворак (ЛАБНГ). Мiнск, 1993–1997. Т. 1–5.
NOTHERN RUSSIAN DIALECTS AGAINST THE COMMON SLAVIC BACKGROUND*
The common Slavic value of northern Russian dialects is revealed by the fact that principal characteristics that set these dialects in opposition to other dialect groups of the Russian language (retention of unstressed o ; ѣ reflex; close vowel o ; explosive consonant g ; pronouncing ch as ts ; postpositive pronoun member, etc.) constitute the indicators, which integrate these dialects with other Slavic languages. It has given many scientists the reason to consider them as a separate eastern Slavic idiom, along with the southern Russian, Belarusian and Ukrainian ones. At the present time, the question of the internal differentiation of northern Russian dialects and their relations with other Russian and Slavic dialects has not yet been brought forward by linguistic geography, although it is of paramount importance for the history of the Russian language and the typology of Slavia’s dialect areas. In this regard, the study of vocabulary is of particular importance. It should be not just about turning to the “meaningful” and culturally relevant elements of language (vocabulary, toponomastics or phraseology), but also to the layers of culture that stand behind them, i. e. to the forms, types and genres of traditional spiritual and material culture, which are equally “dialectal”, in the words of Nikita Tolstoy, with language, and therefore they equally require geographical studying and comparative research. The elements of traditional culture (ritual forms, beliefs, mythological imagery, patterns of behavior or folklore texts), in quite the same way as language elements, indicate deep-seated ethnic and genetic processes that led to the known types of language and cultural traditions.
* The article was written as part of the project “Slavic archaic zones within European space: ethnolinguistic studies”, supported by Russian Science Foundation grant (project No 17-18-01373).
Список литературы Говоры русского севера на общеславянском фоне
- Бромлей С. В. Восточнославянские изоглоссы // Восточнославянские изоглоссы. Вып. 4 / Отв. ред. Т. В. Попова. М.: Институт русского языка РАН, 2006. С. 172-175.
- Вендина Т. И. Русские диалекты в общеславянском контексте (лексика). М.: Институт славяноведения, 2009. 532 с.
- Восточнославянские изоглоссы / Отв. ред. Т. В. Попова. М.: Наука, 1995 -. [Вып. 1- ].
- Ге р д А. С. Материалы для этимологического словаря севернорусских говоров // Севернорусские говоры. СПб., 1995-2009. Вып. 6-10.
- Г у р а А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М.: Индрик, 2012. 936 с.
- Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ). Центр Европейской части СССР. М.: Наука, 1986-1997. Вып. I-III.
- Д у р н о в о Н. Н. Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки русской культуры, 2000. 811 с.
- Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Праславянская акцентология и лингвогеография // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М.: Наука, 1993. С. 65-88.
- З а л и з н я к А. А. Древненовгородский диалект и проблема диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М.: Наука, 1988. С. 164-177.
- Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М.: Языки славянской культуры, 2004. Изд. 2. 872 с.
- Кабинина Н. В. Проблемы изучения финно-угорского топонимического субстрата на территории Русского Севера // Linguistica. LV Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomasticni pogled. Ljubljjana, 2015. S. 207-228.
- Комягина Л. П. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994. 235 с.
- Крысько В. Б. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М.: Наука, 1998. С. 367-380. [То же: ВЯ. 1998. № 3. С. 74-93].
- Лексический атлас русских народных говоров: Материалы и исследования. СПб.: Институт лингвистических исследований / «Нестор-История», 1994-. [Вып. 1-].
- Матвеев А. К. Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера Европейской части СССР. Карты. М.: Наука, 1970. 43 с.
- Матвеев А. К. К проблеме лингвистического изучения юго-восточной части Русского Севера // Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург, 1998. Вып. II. С. 3-9.
- Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2003. 360 с. (2-е изд. 2007. 395 с.).
- Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Серия лексико-словообразовательная. Вып. 6. Домашнее хозяйство и приготовление пищи. М.: Наука, 2007. 191 с.
- Русский Север. Этническая история и народная культура XII-XX века / Отв. ред. И. В. Власова. М.: Наука, 2001. 846 с.
- Севернорусские говоры / Отв. ред. А. С. Герд. Л.; СПб., 1969-2006. Вып. 1-4.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995-2012. Т. 1-5.
- Толстой Н. И. Опыт типологической характеристики славянского члена-артикля // Всесоюзная конференция по славянской филологии: Программа и тезисы доклада. Л., 1962. С. 125-127. [То же: Толстой Н. И. Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 191-193.]
- Толстой Н. И. Из наблюдений над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах // Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. Предварительные материалы. М., 1973. С. 55-57. [То же: Толстой Н. И. Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 194-196.]
- Толстой Н. И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в Современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977. С. 37-56. [То же: Толстой Н. И. Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 10-30.]
- Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 512 с.
- Толстой Н. И. Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М.: Языки русской культуры, 1997. 520 с.
- Толстые Н. И. и С. М. Зеленин-диалектолог // Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленина). М., 1979. С. 70-83. [То же: Толстой Н. И. Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 316-330.]
- Топоров В. Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М.: Наука, 1988. С. 264-292.
- Т р у б а ч е в О. Н. Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI-XVII вв. М., 1987. С. 17-28.
- Трубецкой Н. С. О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства (1925) // Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. С. 143-167.
- Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972. 655 с.
- Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980. 191 с.
- Шахматов А. А. Русская диалектология: Лекции / Под ред. Б. А. Ларина. СПб., 2010.
- Атлас української мови (АУМ). Київ: «Наукова думка», 1988-2001. Т. 1-3.
- Дьiялекталагiчньї атлас беларускай мовы (ДАБМ). Мiнск, 1961. Кн. 1, 2.
- Лекачны атлас беларускiх народных гаворак (ЛАБНГ). Мiнск, 1993-1997. Т. 1-5.
- Lehr-Splawn sk i T. Stosunki pokrewienstwa jçzykôw ruskich // Rocznik Slawistyczny. IX. 1921. No 1. S. 23-71.