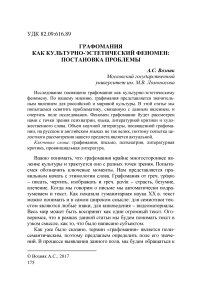Графомания как культурно-эстетический феномен: постановка проблемы
Автор: Возняк А.С.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Искусство и культура в современном гуманитарном знании
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено графомании как культурно-эстетическому феномену. По нашему мнению, графомания представляется значительным явлением для российской и мировой культуры. В этой статье мы попытаемся освятить проблематику, связанную с данным явлением, и очертить поле исследования. Феномен графомании будет рассмотрен нами с точки зрения психиатрии, языка, литературной критики и художественного слова. Объем научной литературы, посвященной графомании, на русском и английском языках не так велик, поэтому попытка целостного рассмотрения нашего предмета является актуальной.
Графомания, письмо, психиатрия, литературная критика, провинциальная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/147228468
IDR: 147228468 | УДК: 82.09:616.89
Текст научной статьи Графомания как культурно-эстетический феномен: постановка проблемы
Важно понимать, что графомания крайне многостороннее явление культуры и трактуется оно с разных точек зрения. Попытаемся обозначить ключевые моменты. Нам представляется правильным начать с этимологии слова. Графомания от греч. γράφω – писать, чертить, изображать и греч. μανία – страсть, безумие, влечение. Когда мы говорим о письме мы автоматически подразумеваем и текст. Как показала гуманитарная наука XX в. текст можно понимать и в самом широком смысле: для семиотики текстом являются любые знаки, для киноведения – видеоматериалы. Весь мир может быть воспринят как один огромный текст. Оговоримся, что в рамках данной статьи мы будем понимать текст в узком смысле, как то, что было написано субъектом.
Как уже было сказано, термин «графомания» является полисемантическим, поэтому предлагаем определить поле его значений. В процессе выявления данного поля, мы будем обращаться к
различным словарям и текстам, ведь язык является носителем культуры и ее памятью. Прежде всего, графомания – это термин из языка психиатрии. Сначала обратимся к двум определениям. Первое – достаточно полное иллюстративное определение из «Большой энциклопедии по психиатрии»: «Графомания от греч. graphe + mania – влечение, страсть, безумие – патологическая страсть к многописательству, большей частью банальному или даже бессмысленному по содержанию, иногда весьма претенциозному или связанному с патографией. Возникает по разным причинам, одной из самых частых среди которых является, по-видимому, гиперкомпенсация комплекса неполноценности, а части случаев – выражением сверхценной либо бредовой идеи отождествления себя с выдающимся писателем…» [4] и емкому определению из словаря С.И. Ожегова: «Графомания – болезненное пристрастие к сочинительству» [7]. Оба определения связаны с паталогической тягой к сочинительству. Но, если определение из словаря C.И. Ожегова краткое и не требует никаких дополнений, то «Большая энциклопедия по психиатрии» значительно расширяет его. К семантике слова «графомания» добавляются: мания величия, бессмысленность содержания, гиперкомпенсация комплекса неполноценности. В смысловом поле двух данных определений и лежит предмет нашего исследования, а именно в попытке выявления понимания и бытования данного феномена в культуре, рассмотрении дополнительных смыслов по сравнению с классическим определением термина, данным в словаре С.И. Ожегова. Можно сказать, что это классическое определение стало семантическим ядром нашего исследования. Оценочность, появляющаяся в определении графомании в «Большой энциклопедии по психиатрии», показательна – данный психиатрический диагноз вполне встраивается в парадигму психиатрической власти, которая не единожды была подвергнута критике в XX в. [3].
Интересно, что психиатрическая власть проявляет себя в таком жанре, как патография. Она становится все популярнее и представляет особую разновидность биографии. Патография является жизнеописанием личности, написанным через призму особенностей ее психического развития. Жанр подвергается критике с самых разных позиций, критикуется он в том числе за стигматизацию анализируемого субъекта и спорные утверждения о том, что болезнь является двигателем творчества. Таким образом, обнажается токая грань между творчеством и безумием и их взаимопроникающий характер.
Если мы рассмотрим продолжение определения «графомания» из «Большой энциклопедии по психиатрии», то прочитаем следующее: «Так, Геббельс исписал в своих дневниках за время второй мировой войны 15 000 страниц машинописи с достаточно тенденциозными текстами, втайне претендуя, по-видимому, на роль главного историографа этой войны, то есть мистификатора исторических событий, клинически явного псевдолога. Он не мог остановиться в своем творчестве до конца коллективного самоубийства вместе с женой и 6-ю детьми. Среди историков РФ встречаются мистификаторы, последователи Геббельса, хотя они более скромны и претендуют лишь на то, чтобы прослыть не преданными идеям коммунистами, какими они изображали себя ранее, а стойкими последователями демократии, той самой, порождением которой был и знаменитый министр пропаганды третьего рейха» [4], то увидим, как даже в словарном определении диагноз графомании становится оружием политической борьбы, сначала против Геббельса, а потом и против переметнувшихся коммунистов, которые используют графоманию, как прием забвения.
Далеко не всегда графомания связана с негативными коннотациями. Примером позитивного влияния графомании может стать «терапия творческим самовыражением» – метод разработанный психиатром М.Е Бруно [2]. Метод заключается в изучении творчества и характеров героев в произведениях великих писателей, а затем перекладывание данного знания на попытки творить самостоятельно, параллельно познавая свою собственную психику.
Графомания часто существует на грани безумия и гениальности. В свое время лауреат Нобелевской премии по литературу Бертран Рассел написал 30 000 писем человеку, который жил через дорогу от него. Если говорить о художественном творчестве, то ярким примером является Ф.И. Достоевский c его поразительной скоростью и качеством письма, а также Л.Н. Толстой с его объемами написанного и развернутой фразой. Таким образом, в нашем понимании графомания не всегда связана с низким качеством написанного, а скорее всего с «тягой» к письму и его объемами.
Как отмечает исследователь А.В. Маркович, графомания является также средством самоидентификации, это несет в себе и социально адаптивную и психотерапевтическую функцию: «В провинциальной литературе графомания оказывается способом самоидентификации. Проговаривание себя, своего бытия, стремление зарифмовать свою жизнь – способ утвердить себя в пространстве. Я описываю – следовательно, я существую» [5].
Особое внимание хотелось бы уделить также вынужденному письму под давлением социальных или иных обстоятельств. Развить данную тему можно снова с сугубо психиатрической позиции: «Встречаются пациенты с синдромом Кандинского– Клерамбо, которые вынуждены, как они говорят, много писать под воздействием неких внешних сил» [4]. Так графомания становится явлением вынужденным, которому невозможно противостоять. То же явление имеет место и в жизни социальной, например, когда на сцену выходят особенности социальной географии: «Провинция в эстетическом смысле ориентируется на центр, поэтому сама к себе не предъявляет в этом смысле строгого счета. Поэтому и графомания близка самой сущности провинциальной жизни – она ближе, опознаваемее, чем талантливый текст, который сколь редок у нас, столь и вызывающ по отношению к сложившемуся укладу» [5].
В конце концов графомания становится оружием литературной борьбы между писателями и критиками. Ведь графоманией в этих сферах называют именно низкие по качеству художественные произведения, часто даже независимо от объемов написанного [6]. Такие оценки можно встретить, как в академической среде, так и в периодический печати. Обратимся за несколькими примерами к «Национальному корпусу русского языка» и дадим комментарий: «Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов “Аллилуйя”, которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению святейшего синода. [В.П. Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)]». Данный отрывок иллюстрирует связь провинциальности, диле- тантизма и графомании, подтверждая приведенные нами ранее выводы.
«Разница: графоман над листом бумаги пьянеет, писатель – трезвеет. [Вадим Перельмутер. Записки без комментариев (2001– 2003) // “Октябрь”, 2003]». Вновь повторяется определение графомании, которое мы уже разбирали. Графоманство связывается с состоянием затуманенного сознания, бреда, потери способности к рациональному осмыслению.
«Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. [Александр Городницкий. “И жить еще надежде” (2001)]». Давид Самойлов задает совершенно иной критерий графомании, связанный с отсутствием результатов деятельности у графомана. Хотя и не ясно идет речь о количественных или качественных характеристиках.
Последнимм аспектом, связанным с графоманией, которого мы коснемся в этой статье будет явление мифологизации. Огромное значение в рассматриваемом культурном феномене играют миф и механизмы мифологизации. В своей известной статье «Литература в духе Мину Друэ» Ролан Барт разоблачает буржуазный миф, связанный с девочкой поэтессой, которую некоторое время превозносили, как гениального поэта [1]. Ученый доказывает, что популярность Мину Друэ была связана не с качеством ее творчества, а с особенностями восприятия массового читателя. Интересно, что в Советском Союзе была аналогичная девочка-поэт Ника Турбина, творчество которой также признавалось гениальным, хотя при анализе творчества в обоих случаях оказывалось, что миф о ребенке-гении конструировался искусственно. Детство – это время первых опытов в письме, в связи с этим феномен детской графомании стоит особняком и является особенно интересным для последующего изучения.
В заключении хотелось бы заметить, что наша попытка выявления различных проявлений такого разностороннего феномена, как графомания не претендует на полноту, но отражает направленность наших исследований. Мы собираемся продолжить наши изыскания, чтобы полнее и глубже изучить всевозможные аспекты интересующего нас феномена.
Список литературы Графомания как культурно-эстетический феномен: постановка проблемы
- Барт Р. Литература в духе Мину Друэ // Мифологии: пер. с фр.; вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М.: Академ. проект, 2010. 351 с.
- Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод). 4-е изд. М.: Академ. проект: Альма Матер, 2012. 487 с.
- Власова О.А. Антипсихиатрия: становление и развитие: монография. М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2006. 221 с.
- Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд. URL: https://vocabulary.ru/termin/grafomanija.html#item-71959 (дата обращения 29.09.2017).
- Маркович А.В. Стратегии графоманского письма как способ провинциальной самоидентификации // ЛОСЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ -2012: матер. регион. науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Урманова. Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2012. С. 130-144.
- Новиков В. От графомана слышу! К истории одного ругательства. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/4/nov.html (дата обращения: 29.09.2017).
- Толковый словарь С.И. Ожегова / под редакцией Н.Ю. Шведовой. 21-е изд. URL: https://alcala.ru (дата обращения: 29.09.2017).