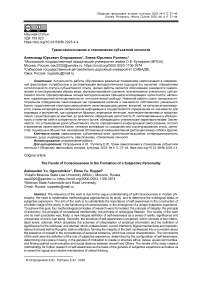Грани самосознания в становлении субъектной личности
Автор: Огородников А.Ю., Руппель Е.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность работы обусловлена размытым пониманием самосознания в современной философии, потребностью в систематизации методологических подходов его изучения, определении онтологического статуса субъективного опыта. Целью работы является обоснование значимости самосознания в конструировании образа мира, функционировании сознания, возникновении уникального субъективного опыта. Сформулированы четыре методологических принципа исследования: целостности, автономии, корреляционной интенциональности, онтологической свободы. Новизной работы стало: авторское интегральное определение самосознания как проживания наличия и значимости собственного уникального бытия; предложенная структура самосознания, включающая два уровня: внешний, на котором актуализируются схемы интерпретации эмпирической информации и осуществляется определение их значимости для индивида, и внутренний, где содержатся базовые, априорные интенции, логические механизмы и представления, существующие до мыслей, до рефлексии, образующие целостность Я, синтезированные в убежденность о наличии себя в конкретности личного бытия, обладающего уникальными характеристиками. Заключается, что установление роли субъективного опыта, определяемого конфигурацией самосознания, состоит в выявлении своего места в бытии, генезисе мотивации по созиданию или структурированию этоса, ценностей, социальных общностей, нахождении оптимальной коммуникативной дистанции между собой и Другим.
Самосознание, субъективный опыт, критическое мышление, интернациональность сознания, душа, индивидуальность, самопознание, становление личности
Короткий адрес: https://sciup.org/149148152
IDR: 149148152 | УДК: 159.923 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.4
Текст научной статьи Грани самосознания в становлении субъектной личности
Введение . Если попросить каждого из нас или члена какого-либо племени Африки представить Вселенную, Космос, весь Мир, всё, что есть, то мы и воспитанники других культур представим некоторую целостность, единый образ, скорее всего, красивый и упорядоченный. Хотя эти представления, если их изобразить, могут очень сильно отличаться друг от друга, все они будут иметь законченный образ, представлять собой нечто целостное, упорядоченное и логическое даже при катастрофическом дефиците эмпирической информации. Мы можем гордо заявить: наше видение Вселенной гораздо точнее, чем образ члена «примитивного» племени. Но и то, и другое будет красивым вымыслом, не подлежащим эмпирической проверке, так как на Вселенную со стороны посмотреть невозможно.
Интересно то, что в любом случае в сознании есть представление о бытии, его визуализация. Это бытие целостно и всеобъемлюще. Не углубляясь в истоки такого видения и механизм его генезиса, нам важно установить, что оно необходимо для представления о целостности и неделимости «Я», ядра самосознания.
Самосознание, а не восприятие внешнего мира, создает единство в представлениях окружающего пространства и времени. Понимание того, что есть единство и единое, первично дано только в опыте самосознания. Себя представить разделенным нельзя, любой другой объект – можно. Мысли, желания, даже противоречивые, чувства и представления осознаются как целостность только при условии понимания, что они собственные, то есть относятся к самосознанию, проистекают из него. Оно является первичным целостнообразующим фактором понимания мира. Самосознание не только предшествует эмпирическому опыту, но и является его необходимым условием.
В настоящей работе мы рассмотрим роль самосознания во взаимосвязи сознания и внешнего мира. Самосознание несводимо к характеру, к личности, к генетике. Рефлексия себя, самоопределение, ответ себе о своем Я возникают на стыке импульсов извне и реакции на них внутреннего мира. В этой реакции опытно открывается наша субъектность: «Ощущение невозможно без ощущающего. Внутренний мир предполагает того, внутри кого он существует» (Фреге, 1987: 31).
Методология исследования . Вывести самосознание из функционирования тела и работы мозга в философии не удалось. Об этом С. Франк предупреждал еще в начале XX в.: «Мы можем посмотреть на наше тело извне и в нашей объективной мысли всегда смотрим на него извне… очевидная внетелесная сторона нашего душевного бытия привела к общему признанию непро-странственности, а, следовательно, и сверхпространственность нашей души» (Франк, 1995: 610). Сознание человека мыслит себя вне времени, вне изменений реальности, стержнем его является нечто постоянное, вечное. Без фундаментального представления о вечности не было бы творчества и стремления к совершенству, зачем созидать и развивать для разрушения во времени. Синтез телесного, изменчивого, адаптивного к бытию и вечного, духовного, свободного от бытия ре-флексируется самосознанием. В философии XX в. также прослеживается дуальность в понимании сознания. В ряде философских школ, например, в экзистенциализме или антропологии М. Ше-лера, самосознание не сводится к знанию или опыту, человек не воспринимает себя частью мира, напротив, чувствует себя лишним, ищет в себе подлинное Я, несводимое ни к обществу, ни к природе. В иных течениях, например, в аналитической философии, преобладает функциональный подход, где самосознание, являясь частью сознания и познания, лишь организует и концентрирует когнитивные процессы. Хотя мы в большей степени согласны с первым направлением, ряд современных исследований на основе второго подхода мы также намерены использовать. Поэтому мы сформулировали интегральное, на наш взгляд, определение самосознания, позволяющее использовать широкий диапазон теорий. Самосознание мы понимаем как проживание наличия и значимости собственного уникального бытия.
На основе современных подходов к сознанию (М. Шелера, С. Франка, И. Ильина, Г. Райла, Дж. Серла, Т. Нагеля, Д. Чалмерса, С. Пинкера, Д.Б. Харта) исходными методологическими посылками исследования самосознания для нас являются четыре принципа.
-
1. Принцип целостности. Самосознание является единым и не разделимым на элементы, например, на черты характера, представления, интенции. Как отмечал С. Франк, «душевная жизнь не есть сумма или равнодействующая сталкивающихся между собой отдельных сил или процессов, а есть первичное слитное единство» (Франк, 1995: 535). Целостность сознания является одним из самых сложнодоказуемых положений. Оно всегда есть законченный образ, достаточное о себе представление. Конечно, оно меняется, дополняется, но любое внесение изменения приводит к
его целостному перестроению. Целостность выводится из понимания. Если рассматривать разум как вычисление, сознание как логическую систему, то понимания здесь нет, как хорошо продемонстрировал американский философ Джон Серл в эксперименте «китайская комната» (Searle, 2000: 557–578). Критики говорили, что термин «понимание» ненаучен. Его нельзя точно определить, поэтому нужно отбросить и вернуть к подходу разума как вычислительной системе. Но в вопросе самосознания как раз понимание является необходимым системообразующим компонентом. Если рефлексию себя рассматривать как реакцию на отдельные импульсы взаимодействия со средой, например, для корректировки свойств, нужных для адаптации, то исчезает системообразующий фактор, который позволяет определить себя как нечто автономное, самостоятельное, отдельное (а не только как часть среды), уникальное. Д. Чалмерс ставит вопрос о различии зомби и нормальных людей. Первые ведут себя так же, как и вторые, но не понимают смысла действий (Чалмерс, 2013: 127–133). Но как раз он возникает при соотнесении с собой, с самосознанием. Тогда потенциальное бытие (идея) переходит в актуальное (действительность). Постоянство самосознания, возможность его использовать как константу при постоянном изменении окружающего, даже биологических процессов в организме, вытекает из целостности представления, из единого законченного образа. Именно свойство целостности, помимо прочего, позволяет говорить об интенциональности как о субъективности, установке, исходящей из субъекта как целостности. Было бы абсурдно говорить, например, что желание сходить в магазин за продуктами есть реакция мозга на выделение желудочного сока, а установка на получение образования – проявление намерения к выживанию в природе на основе информации. Интенциональность исходит из целостного субъекта, преобразующего все импульсы (биологические, душевные и духовные) в единый жизненный поток, в определенной степени упорядоченный и иерархизированный.
-
2. Принцип автономии. Самосознание не может быть сведено исключительно к процессу познания себя как личности, организма, характера, системы навыков, набора знаний и т. п. Оно не тождественно самопознанию, имеет постоянное ядро, устойчивое к изменениям в характере, к новым знаниям, идеям и ценностям. Поэтому фундаментальное слаборефлексируемое представление о своем бытии, чувство Я как центра самосознания, априорно, первично по отношению к социализации.
-
3. Принцип корреляционной интенциональности. Актуализация самосознания происходит не тогда, когда мы думаем исключительно о себе, о своем характере, как мы выглядим, о здоровье и т. п., а когда мы устанавливаем связь себя и внешнего окружения. Самосознание строится на логических, чувственных и интуитивных коррелятах внешних предметов и представлений сознания.
-
4. Принцип онтологической свободы. Самосознание рассматривает свое «Я» как субъекта культуры, включая общество и этос, взаимодействует с ней на равных. Оно не сводится только к рефлексии культуры и социума, к определению своего отношения к ним и места в них. Культура выступает как один из инструментов, материал и результат действия сознания. Самосознание оценивает ее пригодность в этих ипостасях. Приведем простой пример. Человек хочет отдохнуть. Он может выбрать посещение развлекательного учреждения, общение с друзьями в культурном месте или выезд на природу с минимальными атрибутами цивилизации. В этом случае он сравнивает, что ему даст культура в первых двух вариантах и природа – в третьем. Хотя последняя воспринимается не в чистом виде, наслаивается мода, образ жизни, привычки и финансовые возможности, но без противопоставления культуры и природы такой выбор бы не возник. Другой пример – необходимость определения своей позиции по отношению к удовольствию, отрицательно влияющему на физическое благополучие индивида, и поддержанию здоровья. Хотя и здесь есть много примесей культуры, общественных стереотипов, но изначально источником дихотомии служит противопоставление культуры и природы. В этих двух примерах нас интересует не обусловленность выбора, а сама его возможность и необходимая задействованность самосознания, чтобы его сделать. Индивид выбирает, что ему ближе, лучше, на короткий момент дистанцируется и от культуры, и от природы, сравнивает их. Теперь посмотрим глубже. Например, чувства симпатии к человеку. Здесь уже появляется минимум три группы факторов: эмоционально-биологические (привлекательность силы, лидерства или противоположного пола), социокультурные (роли, референтные личности, принадлежность к группе), духовные (духовный подъем, приближение к Богу). Хотя в реальности они смешиваются, но самосознание может заставить их дифференцировать, чтобы понять, чем именно мне близок другой. Погрузимся еще. Сопоставим страсть и нравственный долг. Первая может, например, толкать на месть обидчику, а второй – говорить о необходимости его прощения. Самосознание в этой ситуации дифференцирует природные желания и духовное состояние, каким индивид себя видит: духом или зверем. Выбор здесь будет вторичен по отношению к самосознанию.
Дуальность самосознания. Самосознание является одной из наиболее скрытых частей сознания, что создает методологическое препятствие для его объективного изучения и строгой логической философской рефлексии. Для сохранения точности описания этого явления исследование самосознания возможно только при его проявлениях вовне. Тогда мы можем получить типичные, повторяющиеся данные, подлежащие философской интерпретации. Но следом возникает вопрос о дифференциации факторов среды, вызывающих реакции организма, и паттернов сознания, позволяющих говорить о его автономии. Это очень сложный момент, который требует пояснения. Начнем с примера. Представим индивида, живущего в доме с просторными комнатами, красивыми интерьерами и картинами, прекрасным видом из окна на парк. Он будет мыслить о себе как о ценителе искусства, считать, что у него прекрасный вкус к красоте. Другой индивид живет в маленькой квартире с типовым ремонтом в спальном районе города. Он будет осознавать себя как обычного жителя города, как трудового человека. Красота искусства для него – лишнее, мешающее жить. Он может думать, что интерьеры и картины красивого дома – это ненужная роскошь. Возникает вопрос: является ли стремление к красоте в сознании первого индивида и стремление к простоте в сознании второго врожденными паттернами сознания, который встроен в самосознание? Если ответить на этот вопрос с позиции социологии, то можно сказать, что сознание формируется в процессе социализации под воздействием вещей среды. Какова среда, образ жизни, «габитус» (Бурдье, 1994: 24, 162) и ожидания окружающих, таково и будет представление индивида. Но такой ответ уводит от онтологической стороны проблемы. Само конструирование среды, например, строительство и украшение дома, возникает как результат действия сознания, реализации возможности воспринимать красоту и наслаждаться ею.
Для решения данной проблемы мы предлагаем разделить самосознание на два уровня: внешний, реагирующий и интерпретирующий эмпирическую информацию с позиции ее актуальности для индивида, ценности и значимости, и внутренний – содержащий базовые, априорные интенции, логические механизмы и представления, существующие до мыслей, до рефлексии и любой интерпретации, любого понимания, образующие целостность Я, синтезированные в убежденность о наличии себя в конкретности личного бытия, обладающего индивидуальными характеристиками. Хотя непосредственно, а тем более эмпирически, изучать этот уровень невозможно, мы можем установить необходимые, имманентные сознанию условия, которые дают возможность функционировать внешнему уровню.
В нашем примере с домом внутренним уровнем самосознания является потребность в красоте как некоторый паттерн сознания, присутствующий у всех, но актуализирующийся по-разному в различных средах или подавленный деструктивной средой. Для нас важно, что актуализация подобных паттернов, понимаемая индивидом, включена в ядро, внутреннюю сторону самосознания. Здесь еще нет мыслей, образов, концептов, даже языка. Мы как бы обнаруживаем себя, то, что мы есть, через особое, личное восприятие реальности и ощущение отчужденности от нее, переживание отношения к ней в соответствии со своими свойствами сознания, проявлениями его.
Внешний уровень самосознания актуализируется как свободная, выбираемая или создаваемая реакция. Возвращаясь к нашему примеру, если окружающие восхищаются дворцом, то индивид может захотеть узнать, сможет ли он прийти от него в такой же восторг. Он узнает, что других восхищает, ищет подобные чувства в себе, может их либо найти, либо нет, но в любом случае он обнаружит и отрефлексирует свой индивидуальный отклик на этот объект действительности, хотя со временем восприятие может и поменяться. Это и есть работа самосознания, схватывание его, когда оно «вырывается» вовне.
Возвращаясь к первоначальной методологической проблеме, отметим, что при исследовании самосознания необходимо различать заложенные в сознание модели, паттерны, интенции, влияющие на рациональность, на мысль и условия среды, в которой они реализуются или подавляются: «Каждая из основных инженерных проблем, решаемых разумом, неразрешима без встроенных предположений о законах, действующих на этой арене взаимодействия с миром» (Pinker, 2009: 32).
Вернемся к вопросу о границе между этими уровнями самосознания. Во-первых, внутренний уровень постоянен, хотя и может меняться, но только целиком, как нечто простое, не состоящее из частей. Внешний же непрерывно преобразуется. Любое новое представление в нем соотносится с существующей иерархией качеств личности и знаний. Например, если индивид понимает, что ему нравится новая книга, то он часто непроизвольно соотносит свои предпочтения и вкусы в литературе с новым произведением. Если противоречий старого и нового нет, то интерес к книге встраивается в иерархию литературных предпочтений, усиливает представление о должных свойствах литературы, наличие которых создает индивидуальные переживания произведения. Внутренний уровень здесь не затрагивается. Если же возникает конфликт свойств нового интересующего предмета, в нашем случае – книги, и иерархии предпочтений, то возникает уже осознанная рефлексия – сравнение и выбор между сохранением иерархии, подавлением нового интереса и изменением иерархии, включением в нее иных предпочтений, что открывает наличие внутреннего уровня себя как постоянства бытия и как основы, которая сопротивляется поспешным изменениям во вкусах, создает границы интересам. В этом примере видна целостность самосознания, несмотря на возникновение в нем новых компонентов, интерпретаций опыта, вызванного восприятием свойства внешнего предмета.
Современные исследователи сознания часто обходят проблему интереса, интенции к познанию, но она влияет не только на сам акт, но и на результат познания. Знаменитый мысленный эксперимент с исследовательницей Мэри, изучающей восприятие красного цвета, но видящей мир в черно-белых оттенках, упускает именно момент внутреннего, постоянного интереса, предшествующего процессу познания и восприятия конкретной вещи (Jackson, 1986). Поэтому интерес как интенция есть та переменная, которая в первую очередь будет реагировать на открывшуюся способность у Мэри видеть красный цвет.
Вторым критерием различия внутренней сферы сознания от сферы восприятия внешних предметов является критичность, недоверие опыту. Интенции, предрасположенности и логические константы внутреннего уровня воспринимаются как собственные, как часть самосознания. Критическое к ним отношение почти невозможно, так как требует сомнения в своих фундаментальных качествах. Мысли, опыт и интерпретации внешней сферы сознания, напротив, проходят проверку, апробацию на надежность в соответствии с индивидуальными алгоритмами. Мы бы хотели подробнее остановиться на этих механизмах отбора, так как они многое говорят о самосознании. Исследования сознания показывают, что в памяти остается лишь небольшое количество предметов и явлений, которые могут быть восприняты индивидом. Человек обращает внимание и запоминает то, что ему важно или соответствует его ожиданиям, наработанным схемам восприятия, то есть соответствует внутреннему уровню самосознания. Но даже опыт, прошедший через эти неосознанные или слабо осознанные фильтры, дальше подвергается критической оценке как соответствию отработанным моделям понимания мира1.
Третьим критерием разделения внутреннего и внешнего уровней самосознания является представление о детерминизме и о свободе. Человек мыслит себя как свободное проявление идей, желаний и других феноменов сознания. Он чувствует свободу в управлении сознанием в сфере своего внутреннего мира. По словам современного американского философа Дэвида Харта, основная особенность человеческого разума «заключается в его способности превосходить любую конкретную систему отсчета и любую единственную перспективу, использовать неисчислимый диапазон интеллектуальных способностей и оставаться открытым для всего горизонта потенциально бесконечной постижимости бытия» (Харт, 2019: 86).
Мы не будем вдаваться в вопрос об истинности или ложности такого представления о свободе. Возможно, она есть лишь потенциал, который требует раскрытия через работу над собой. В любом случае данное чувство необходимо для осознания своей личности, себя как субъекта, имеющего индивидуальность, автономное бытие. Внешний уровень, состоящий из представлений о воспринимаемом мире, напротив, везде содержит детерминизм. Конечно, творческая способность направлена на его преодоление, на изменение мира под воздействием иных представлений о нем, то есть основана на стремлении к совершенствованию на основе идеала или интуиции. Но это лишь усиливает чувство детерминизма. Внутренний свободно мыслящий идеал сталкивается с противоречащим ему представлением о внешней, кажущейся несовершенной, неподходящей, чуждой реальности. Образ ее может меняться, но опять исходя из внешних детерминант. Эмпирический опыт всегда жестко детерминирован как внешними импульсами, так и встроенной в сознание логикой их интерпретации. Такая диалектика свободы и детерминизма сознания создает условия для творчества как удостоверения в реальности свободы, самоубеждения в существовании идеала, возможности актуализации своего бытия через воплощение его свойства вовне, посылку «идея индивидуума есть индивидуальное Я не в том виде, как оно реально осуществит свою деятельность, а в том виде, который представляет идеальное назначение его» (Лосский, 1927: 102).
Истоки субъективного опыта . Предложенное структурирование самосознания – деление его на два уровня – позволяет больше узнать о субъективном опыте, его истоках и возможностях. Если мы сомневаемся в реальности получения такого опыта, это же ощущение переносится и на возможность автономного, индивидуального самосознания, независимого (хотя бы частично) от внешнего детерминизма. Если то, что мы понимаем под «самосознанием», является детерминизмом внешних импульсов, то дальнейшее его изучение как особого явления не имеет смысла. Субъективный опыт содержит возможность свободы мысли, рефлексии познания, которую Пьер Тейяр де Шарден определил как «приобретенную сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, – способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь» (Де Шарден, 1987: 136).
Обычно субъективный опыт ищут в уникальности, отличительных способностях индивидуального сознания. Но мы намерены идти обратным путем. Если предположить, что во внутренней стороне самосознания индивида заложено представление о человеке, его онтологический образ, в котором предельно развиты все свойства, то сравнение себя с другими или с собой в разные временные периоды приведет к соотнесению с точным критерием - определением того, позволяет ли обнаружение новых свойств в других или в себе лучше понять, приблизиться к этому образу.
Другими словами, в человеке есть устойчивое представление о себе, в котором четко разграничены общие, родовые и особенные, индивидуальные свойства. Как формируется это представление, мы не будем рассматривать в этой статье. Отметим лишь, что оно не может полностью вытекать из опыта или быть исключительно априорным. Культура, круг общения, социальные условия влияют на него. Но первоначальная матрица свойств заложена доопытно. Эти представления создают границы самосознания. И это очень важная его особенность, исследования которой пока малочисленны.
Каждый из нас понимает, что наши представления могут неточно совпадать с действительностью. Например, мы знаем хорошо человека, его характер, интересы. При этом его мечты, мысли, многие личностные черты остаются для нас скрытыми. Поэтому, чтобы иметь целостное представление об этом человеке, мы частично додумываем его характер. Представления о нем являются гипотетическими. Они выступают исключительно частью нашего сознания и связаны с работой самосознания, которое заявляет о значимости понимания нашего знакомого, важности интереса к нему, его познания. Релевантность нашего представления реальности в данном случае проверяется, помимо прочего, способностью разграничить три группы знаний: априорные (онтологические свойства, ожидаемы в каждом), гипотетические (доконструированные нашим сознанием), полученные опытным путем (узнаны в процессе познания).
Другой пример. Кому-либо нравится сидеть на берегу реки в тишине, наблюдать за природой и, может быть, рыбачить. Представления о том, что вокруг красиво, спокойно и в этом месте приятно находиться, включают в себя два компонента: имманентный сознанию (чувство, что именно мне здесь нравится, это мой выбор отдыха, индивидуальный и значимый для меня) и опирающийся на объективное представление или мысли о месте (здесь объективно мало посторонних звуков, воздух имеет меньше химических примесей, чем в городе, цветовая гамма благоприятно действует на глаза и мозг). В этих двух примерах разграничение знаний на свои переживания и представления о реальности необходимо почти для любой коммуникации, для координации действий. Понимание, что в каждом есть аналогичное моим объективное понимание свойств реальности и субъектные переживания о ней, позволяет создавать социальные конфигурации, культурный контекст. Такое разграничение основано на устойчивом самосознании, в котором есть константы - данные о моих субъектных предпочтениях, гипотезах, интенциях и др. И вместе с тем существуют устойчивые алгоритмы проверки на объективность внешнего опыта, позволяющие доверять себе, своим выводам или что-либо подвергать дополнительной проверке, пересматривать, менять представления.
Объединяющими в группы и культуры являются оба этих компонента сознания. С одним из них, объективным, как фактором интеграции более понятно. Совместный опыт, общая интерпретация алгоритмов исследования реальности, например, проверки законов физики, способствуют как минимум интерсубъективным представлениям о том, что происходит вокруг, взаимопониманию, поддержке или дискурсу. Внутренней уровень самосознания, хотя и является сугубо индивидуальным, достоверно несравнимым с иными, может быть похожим на переживания у других, но тоже требует проверки или актуализации. Сознание имманентно содержит стремление обнаружить в другом либо адекватный отклик своим субъектным интенциям, либо что-то на них похожее, аналогичное, родственное. Такое желание может иметь масштабы человечества, когда речь идет о создании произведений подлинного искусства, или нескольких людей, пытающихся найти поддержку своим впечатлениям в малой группе. В любом случае такой латентный процесс интеграции не менее важен, чем объективный и явный. Например, единство нации не может основываться только на рациональном принятии целей, рисков, стратегии изменений. Важно удостоверение в общности субъектного проживания значимости для других самого единства как свободно реконструированной в сознании субъектной реальности. И даже если она у каждого своя (хотя имеет некоторые общие черты), согласие относительно важности проживания каждым этого конструкта является необходимым элементом сплочения.
Таким образом, результатом взаимодействия двух уровней сознания является субъектный опыт, уникальное восприятие мира. Даже при одинаковых импульсах извне и некоторых общих алгоритмах интерпретации получаемой при восприятии информации, индивидуальное представление всегда есть проявление особого взаимодействия внутреннего и внешнего уровней самосознания. Чувство этой индивидуальной уникальности необходимо для нормального функциони- рования личности. Развитие его важно в системе образования, в обществе, культуре как основание конструктивных, созидательных межличностных и институциональных отношений: «Субъективность сознания является неотъемлемой чертой реальности и должна занимать такое же фундаментальное место в любой заслуживающей доверия картине мира, как материя, энергия, пространство, время и числа» (Nagel, 1986: 7–8). Напротив, отрицание уникальности субъектного опыта, нивелирование его в культуре и социальных отношениях угрожает духовному становлению и творческим способностям личности.
Заключение . Целостность самопонимания порождает целостность восприятия внешнего мира, которая не исчезает в результате изменений. Из хаоса человек способен восстановить целостность. Например, – город после землетрясения, социальную систему после революции, внутренний мир после сильного психического потрясения. И это не реконструкция по алгоритму, а создание нового, лучшего в соответствии с пониманием должного, важного для себя и объективно современного, универсального. Опыт целостности и универсальности появляется в самосознании, которое мы определяем как проживание реальности, значимости и уникальности собственного бытия.
Субъективное индивидуальное восприятие создает интерес к другому как к чем-то подобному, а в чем-то отличному. Схожесть и в то же время дифференциация с другими создают многообразие межличностных отношений, необходимых для институционализации общих социальных норм. Примером актуализации самосознания при взаимодействии с другими может служить танец. В нем индивид переживает субъективное эстетическое удовольствие, управляя своим телом, движениями, конструируя пространство, понимая свою роль в танце, свой интерес к нему. Но не менее важным в этом процессе становится другой, без которого не получится фигуры в пространстве. Танец предполагает общее для участников эстетическое наслаждение, понимание того, что другие переживают то же, что и я: «Для группового танца необходимо единодушное согласие всех его участников… это согласие выражается в виде пространственно-временной структуры, которую можно считать чем-то вроде объединяющей нормы» (Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики …, 1995: 152). Но другой здесь нужен не как атрибут, а как субъект сопереживания. Данный пример показывает, что самосознание участвует в соотнесении себя с Другим для нахождения оптимальной коммуникативной и социальной дистанции. Поэтому наличие разнообразия вариантов и свободы выбора в субъективном опыте является необходимым условием осознанной и мотивированной установки индивида на социальную интеграцию.
Образ мира как целостность, как символ бытия, обиталища, создается самосознанием. Он индивидуален, понимается как собственный, как результат внутреннего духовного деяния. Одновременно представление о мире как о едином включает других, требует опоры в них, чувства общности, в том числе онтологического единства, то есть хотя бы частичной тождественности внутреннего уровня самосознания. В индивиде возникают два разнонаправленных процесса: с одной стороны, обнаружение своей уникальности, индивидуальности как гарантии собственного бытия, наличия только личного самосознания, управляемого исключительно внутренними интенциями, с другой – поиск общих алгоритмов интерпретаций опыта, совокупной природы как основы понимания происходящего, ценностного. Мост между индивидуальным и общим осознанием можно назвать символом, ценностью, идеей, даже коллективным сознанием. Но во всех этих случаях конечным смыслом остается только индивидуальное восприятие. Всеобщее будет только аналогией, теоретической абстракцией или носителем индивидуального, как, например, художественный текст или символика государства. Поэтому от глубины самосознания, от условий его целостного становления во многом зависит крепость социального единства, значимость объединяющих общество идей и ценностей, актуализация творческого потенциала нации.
Результаты исследования создают методологию для дальнейшего исследования самосознания как основы генезиса субъективного опыта, позволяют раскрыть логико-интуитивные механизмы критического мышления.