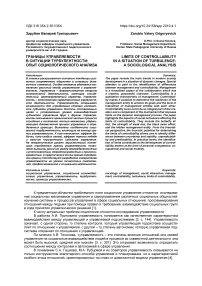Границы управляемости в ситуации турбулентности: опыт социологического анализа
Автор: Зарубин Валерий Григорьевич
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются основные тенденции развития современного общества в ситуации динамичных изменений. Особое внимание уделяется выявлению различий между управлением и управляемостью. Управление - формализованная сторона коллективной деятельности, имеющая созидательный, целенаправленный характер. Управляемость - качественная характеристика управленческой деятельности. Управляемость открывает возможности для определения степени готовности субъекта управления достичь поставленных целей и установления уровня взаимодействия субъектов управления друг с другом. Управляемость оказывается органической частью процесса созидания и составной частью механизма, удерживающего динамический процесс управления в определенных границах. Выявлены особенности социальной турбулентности, влияющие на контур границ управляемости. К ним относятся: эффект бабочки, сила слабых связей, эффект черного лебедя и наличие «призрачного» субъекта управления. На теоретическом уровне эвристический потенциал определения границ управляемости позволяет выявить различия между неопределенностью и устойчивостью, непредсказуемостью и прогнозируемостью. С практической точки зрения определение границ способствует разработке измерителей управляемости на уровне личностных компетенций, профессиональной и социальной мобильности.
Социология управления, социальное взаимодействие, управление, управляемость, турбулентность, границы управляемости
Короткий адрес: https://sciup.org/149133313
IDR: 149133313 | УДК: 316.354.2:351/354 | DOI: 10.24158/spp.2019.4.1
Текст научной статьи Границы управляемости в ситуации турбулентности: опыт социологического анализа
К предметным областям проблемного поля социологии управления относятся: исследование социальных механизмов управления и самоуправления различных социальных общностей, изучение системы и процессов управления в сфере социальных отношений, программирование отношений между людьми при помощи правил и требований, взаимодействие социальных групп в ходе принятия управленческих решений [1].
К числу актуальных проблем социологии относится исследование управляемости.
В работах А.И. Пригожина управляемость понимается как качественная характеристика взаимодействия между управляющей и управляемой подсистемами [2, с. 144]. Управляемость означает, с одной стороны, ту степень контроля, который управляющая подсистема осуществляет по отношению к управляемой, с другой – ту степень автономии, которую управляемая подсистема сохраняет по отношению к управляющей.
По мнению А.В. Тихонова, «управляемость – это степень влияния отношений или связей управления на социальные взаимодействия людей в процессе их совместной деятельности; она может быть высокой, средней или низкой» [3, с. 301]. Это открывает возможность определить соотношение между контролем и автономией в сфере управления.
В понимании С.А. Гашкова, М.А. Рубцовой и их соавторов управляемость оказывается не только инструментом эгалитарного способа управления и планирования, но и характеристикой особого этоса отношений, ориентированных на отказ от доминантной модели управления [4].
На наш взгляд, следует обратить внимание на различие между двумя феноменами – управлением и управляемостью. Если управление оказывается формализованной стороной коллективной деятельности, имеющей созидательный, целенаправленной характер, то управляемость представляется качественной характеристикой этой деятельности. Управляемость открывает возможности для определения степени готовности субъекта управления достичь поставленных целей и установления уровня взаимодействия субъектов управления друг с другом.
Каковы особенности ситуации динамичных изменений развития, влияющие на управляемость?
Резко возросло количество коллективных и индивидуальных акторов, представляющих разнообразные локальные ценностные конструкты, которые в отличие от социальных субъектов недавнего прошлого, чьи действия обусловлены жесткими рамками социальной структуры, способны к саморефлексии и активному преобразованию социальных реалий [5]. Саморефлексия способствует формированию разнообразия жизненных стратегий, что привело к многовекторности и нелинейности развития.
Возникло противоречие между представлениями о естественном социальном порядке и о гибриде неправовой легитимной войны [6, с. 240–245]. Если первое ориентируется на сохранение традиций, правовое регулирование и достижение мира, то второе базируется на стратегии провокаций с применением угроз и силы.
Произошло переосмысление природы социального. Считается, что социолога-профессионала интересует только то, что существует внутри социального мира, а именно социальные взаимодействия. Мейнстрим современной социологии состоит в том, что она стремится выйти за пределы социального конструктивизма. В понимании Б. Латура на смену привычному пониманию сообщества приходит осознание существования двухпалатного коллектива, который включает множество людей (их мнения, желания, интересы и ценности), множество вещей и сообществ, существующих в живой природе (например, микробы), а также ученых, которые выполняют экспертную и посредническую миссию между этими множествами [7, с. 81–89]. Новое понимание социальности объясняет появление тенденции к усложнению современности.
Особенности, свойственные ситуации динамичных изменений, порождают эффект социальной турбулентности.
Поиск соотношения между управляемостью и неуправляемостью позволяет отойти от устоявшихся характеристик социальной турбулентности как негативного явления. Например, З. Бауман находит меткое выражение – «текучая современность» [8], О.Н. Яницкий обращает внимание на всепроникающий риск деградации и разрушения мировой экономической и политической системы [9, с. 158]. В свою очередь, С.А. Кравченко считает турбулентность «нормальной аномией», которая является продуктом «стрелы времени» и проявляется в виде особых нелинейных явлений, инициирующих разрывы и травмы нынешнего бытия [10, с. 7].
Соотношение между управляемостью и неуправляемостью выявляет наличие в социальной турбулентности не только негативного, но и позитивного потенциала. В современных условиях отсутствует прямая связь между управляемостью и подчинением, а акцент смещается на то, что неуправляемость – это не только неподчинение и неподконтрольность, но и нечто созидательное, например автономность и самоорганизация. Неуправляемый объект в отличие от не-подчиняющегося способен к самоорганизации, автономии и творчеству.
Каковы очертания границ управляемости в ситуации турбулентности?
Первая метка, обозначающая контур управляемости, вызвана эффектом бабочки. Данный эффект возникает в условиях возрастающей мобильности и хаотичности современного мира. Локальные события, несущественные на первый взгляд, вызывают значимые, лавинообразные и непредсказуемые последствия в будущем. В этой ситуации управляемости свойственны следующие признаки:
-
– высокая чувствительность поведения системы к начальным условиям функционирования;
-
– крайняя непредсказуемость непрерывного, нелинейного и нерегулярного движения, возникающая в динамической системе;
-
– внешняя хаотичность процесса принятия решений, которые неслучайны, хотя и непредсказуемы.
В ходе принятия управленческих решений следует обратить особое внимание на соотношение между предсказанием и прогнозом. Если предсказание является сообщением о некотором событии, которое непременно произойдет в будущем, то прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта управления в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний [11, с. 115–126]. Предсказать будущее невозможно из-за множества ошибок в измерениях, порожденных незнанием всех факторов и условий, в которых функционирует динамическая система. Следовательно, управляемость не может опираться на предсказания, в то время как прогнозы, которые зависят от масштаба и временно́й протяженности, оказываются в ситуации турбулентности ориентирами движения.
Другая метка, характеризующая контур границы управляемости, образована силой слабых связей. Американский социолог М. Грановеттер считает, во взаимодействии между людьми проявляются как сильные, так и слабые связи [12]. Сильные связи возникают в результате родства и иерархической субординации, а слабые образуются между знакомыми, одноклассниками, сослуживцами и коллегами по работе. Разновидностью слабых связей являются очень слабые (отсутствующие) связи. Пример отсутствующих связей – множество сетевых сообществ, действующих во Всемирной паутине.
Социальные связи различаются по критерию частоты и длительности социальных контактов. Почему сильные связи уступают слабым в ситуации турбулентности? Если сильные связи, опирающиеся на традиции, привычки и правила, статичны, то слабые связи, не ограниченные тесными контактами, динамичны.
В ситуации слабых связей управляемости свойственны следующие признаки:
-
– полезность, приводящая к фильтрации информации в ходе межличностного общения между субъектами управления;
-
– инновационность, являющаяся источником поступления дополнительной информации из расширенного круга источников;
-
– диссеминация, превращающая субъектов управления не только в потребителей информации, но и в ее создателей.
Следующая метка определяется присутствием «черных лебедей» [13, с. 115–126]. Н. Талеб применил столь яркую метафору для обозначения события, ускользающего из поля зрения управленца-профессионала. Это событие обладает рядом характеристик. Прежде всего, оно аномально, казалось бы, ничто в прошлом его не предвещало. Кроме того, оно таит в себе потенциал огромной силы. Наконец, наш опыт заставляет нас выдвигать объяснения случившемуся уже после того, как событие произошло, превращая его сначала в нежданный сюрприз, а затем, при помощи объяснений, в тривиальное и предсказуемое действо. К таким событиям можно отнести техногенные катастрофы, мировые экономические кризисы, изменения на рынке труда.
Управляемости, которая осуществляется с учетом возможности возникновения аномальных событий, обладающих огромной силой, свойственны следующие признаки:
-
– готовность к любым случайностям, без переоценки точности и конкретики, поскольку события в жизни общества, бизнесе и науке чаще всего случаются неожиданно;
-
– изживание склонности к преуменьшению рисков и чрезмерная вера экспертам, которые переоценивают свои способности в прогнозировании;
-
– избегание поиска причин произошедших событий, так как они являются частью внутренней системы мышления, в то время как действительных причин может быть множество и они могут быть нам неизвестны.
Наконец, четвертая метка, характеризующая контур границы управляемости, связана с тем, что в данной сфере действуют не только явные, но и «призрачные» субъекты управления [14]. В отличие от явных субъектов управления, которые действуют открыто, вторые шифруют свое реальное и символическое участие в управленческом процессе. Участники рынка, ведущие недобросовестную конкурентную борьбу, ньюсмейкеры, манипулирующие общественным сознанием, составляют когорту «призрачных» субъектов управления.
Управляемость должна учитывать угрозы, которые исходят от «призрачных» субъектов управления. К основным угрозам в ситуации динамической неопределенности относятся следующие:
-
– сопротивление в отношении «дешифровки», идентификации, маркирования скрытых действий;
-
– стремление к объединению в «призрачные» сети, представляющие собой конгломераты, способные контролировать ресурсы реальных субъектов управления;
-
– владение набором манипулятивных технологий, посредством которых осуществляется контроль за действиями реальных субъектов управления.
Таким образом, на теоретическом уровне эвристический потенциал определения границ управляемости позволяет выявить различия между неопределенностью и устойчивостью, непредсказуемостью и прогнозируемостью. Управляемость оказывается, с одной стороны, органической частью процесса созидания, с другой – составной частью механизма, удерживающего динамический процесс управления в определенных границах.
С практической точки зрения определение границ способствует разработке измерителей управляемости на уровне личностных компетенций, профессиональной и социальной мобильности. Данное утверждение служит отличительным признаком между менеджментом и социологией управления. Если исследователь в области менеджмента ищет причины управляемости в организационном развитии, то социолог пытается понять строение социальных отношений.
Ссылки:
Список литературы Границы управляемости в ситуации турбулентности: опыт социологического анализа
- Зарубин В.Г., Семенова А.А. Социология управления: конструирование предметного поля науки // Научное мнение. Экономические, юридические и социологические науки. 2017. № 1. С. 8-13.
- Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995. 296 с.
- Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2007. 472 с.
- Social Engineering through the Optics of Passivity/Activity Opposition: A Literary Review / S. Gashkov, M. Rubtcova, I. Khmyrova-Pruel, T. Malinina, T. Sanzhimitupova // International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11, iss. 5. P. 3134-3140.
- Гидденс Э. Рефлексивность современности // Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011. С. 153-164.
- Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. М., 2007. 464 с.
- Латур Б. Политики природы: как привить наукам демократию. М., 2018. 336 с.
- Bauman Z. Postmodern Ethics. Malden; Oxford, UK; Carlton, Victoria, 1993. 118 p.
- Яницкий О.Н. «Турбулентные времена» как проблема общества риска // Общественные науки и современность. 2011. № 6. С. 155-164.
- Кравченко С.А. Усложняющиеся метаморфозы - продукт «стрелы времени» и фактор социоприродных турбулентностей // Социологические исследования. 2018. № 9. С. 3-11.
- DOI: 10.31857/s013216250001952-0
- Урри Дж. Как выглядит будущее? М., 2018. 320 с.
- Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10, № 4. С. 31-50.
- Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М., 2015. 736 с.
- Денисов А.А. «Призрачные» субъекты в управлении современным военным и политическим конфликтом // Государственная служба. 2010. № 2 (64). С. 67-70.