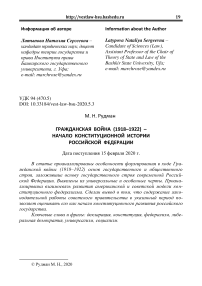Гражданская война (1918-1922) - начало конституционной истории Российской Федерации
Автор: Рудман Марк Наумович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы особенности формирования в ходе Гражданской войны (1918-1922) основ государственного и общественного строя, заложившие основу государственного строя современной Российской Федерации. Выявлены их универсальные и особенные черты. Проанализирована взаимосвязь развития американской и советской модели конституционного федерализма. Сделан вывод о том, что содержание законодательной работы советского правительства в указанный период позволяет оценивать его как начало конституционного развития российского государства.
Декларация, конституция, федерализм, либеральная демократия, универсализм, социализм
Короткий адрес: https://sciup.org/142232130
IDR: 142232130 | УДК: 94 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2020.5.3
Текст научной статьи Гражданская война (1918-1922) - начало конституционной истории Российской Федерации
Анализ событий Гражданской войны (1918–1922) в России с точки зрения эволюции законодательного оформления формы правления, формы государственного устройства и политического режима позволяет сделать вывод о фундаментальном значении политики партии большевиков и ее влиянии на формирование современного конституционного строя Российской Федерации.
Началом становления присущих Новому времени политико-правовых форм выражения публичной власти как проявления воли нации, закрепленных сначала в декларациях прав и политический претензий, а затем в конституциях как законодательных актах высшей юридической силы, в России следует считать 1918 год, когда появились первые акты конституционного значения, принятые правительством В.И. Ленина, находившегося под обаянием идеала преобразований мирового значения. В этих актах проявился присущий началу российской конституционной истории универсализм, заключающийся в позиционировании происходящих и инициируемых большевиками событий как явлений мирового масштаба, призванных положить начало новой эры в истории человечества, а также традиционное соперничество с Западом как одна из ведущих черт российской ментальности. Но если для Западной Европы такое значение имели буржуазные революции XVII–XVIII вв., провозгласившие идеи «свободы, равенства, братства», то для России – строительство первого в мире социалистического государства и утверждение мировой гегемонии пролетариата.
При формировании первых актов конституционного значения большевиками были заимствованы универсальные юридические формы выражения публичной воли, выработанные в ходе создания первого в истории человечества федеративного государства – Соединенных Штатов Америки. Настрой на восприятие государств-«первопроходцев» в российском конституционном строительстве в качестве и учителей и конкурентов является исторически обусловленным и восходит к периоду реформ Петра I. Для «конкуренции» советские лидеры, не желавшие ограничиваться в своих планах масштабами одного государства, выбрали аналогичную по размаху конституционную модель США и Франции времен Великой революции 1789–1799 гг. Примечательно, что указанные конституционные эксперименты изначально не предполагали ограничения какими-либо территориальными рамками масштабов строительства конституционного государства.
Интересы американской нации были оформлены в 1776 г. в виде Декларации независимости. Универсальное значение этого документа заключается в том, что началом государственного строительства большинство народов считает декларацию о государственном суверенитете конкретного субъекта политического строительства, а основное ее отличие от первоисточника в том, что все подобные декларации утверждают интересы своей национальной гражданской общности, а Декларация независимости США опирается на универсалистскую концепцию права каждого на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Сегодня просветительское и мобилизующее к политической активности содержание понятия «декларация» утрачено. Оно отражает не «декларативность», отличающую тезис, который не может быть подтвержден реальной властью, а готовность авторов и сторонников декларации, убежденных в актуальности выраженных в ней ценностей, к активной и жертвенной деятельности, привлекающей множество адептов, делающую политическую декларацию началом национальной истории [1, с. 358].
С формально-юридической стороны определяющую роль в становлении российской государственности республиканского периода, наряду с заимствованной у французских революционеров формой декрета, играли возникшие в конституционной традиции США декларации и конституции. III Всероссийский съезд Советов, проходивший в Петрограде 10–18 января 1918 г., противопоставляемый в качестве легитимного органа народного парламента разогнанной большевиками «Учредилке», принял имевшее конституционное значение для формирования советского типа государственности решение об объединении Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов. Также на этом съезде была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В ней были утверждены конституционные принципы нового общественного строя, не ограниченные национальными рамками. А.С. Барсенков и А.И. Вдовин оценивают Декларацию как конституционный акт, объявивший Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [2, с. 56].
В сочетании «рабочих и крестьянских депутатов», союз которых выражал публичную волю нового политического сообщества, отражалось традиционное для России понимание справедливости, присущей исключительно неимущим слоям трудящихся. Не меньше традиционности, понятной и близкой российскому обществу и в настоящее время, было в сочетании «солдатских депутатов», акцентировавшем иррациональное, сформировавшееся исторически уважение к военной службе. В указанных чертах проявилась уникальная для России политическая зрелость правящего слоя в лице партии большевиков, учитывавшей новые политические запросы социального большинства и готовой творчески на них реагировать.
Способность советского правительства периода Гражданской войны (1918–1922) к политическому творчеству, положившему начало конституционной истории России, проявилась также в закреплении федеративной формы государственного устройства как политического идеала, развитие которого связывалось с мировой революцией и созданием мирового социал и-стического государства. Первым актом о федеральном принципе государственного устройства стала принятая на том же III Всероссийском съезде Советов резолюция «О федеральных учреждениях Российской Республики», провозгласившая принцип построения нового государства на основе добровольного союза народов – федерации советских республик этих народов. Одновременно ВЦИК от лица Всероссийского съезда Советов было поручено подготовить проект «основных положений Конституции Российской федеративной республики» [2, с. 57].
Оперативный переход правительства Советской России от политической декларации к юридической конституции является прямым заимствованием основополагающих документов демократических революций XVIII в., символизировавших наступление Нового времени в странах Нового и Старого Света. Подтверждением данного утверждения следует считать то, что аналогичными по значению идеологическими документами, претендующими на статус новой «светской религии» в мировой истории, являлись только Декларация независимости североамериканских штатов от 4 июля 1776 г. и французская Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г.
Очевидные претензии на роль универсальной политической системы мирового масштаба, открытой для всех наций и отражающей рассмотренный ранее идеал социального устройства в форме федерации равноправных политически автономных общин, заявлены и в Конституции США 1787 г., положившей формально-юридическое начало единству американской нации. Источником власти по Конституции является народ, учредивший федеральные органы власти и одновременно жестко ограничивший пределы их полномочий путем включения в текст Основного закона 10 статей Билля о правах, количество которых должно было подчеркнуть преемственность от десяти заповедей Ветхого Завета. В результате каждый штат получил право на определенную внутреннюю автономию, граничащую с политической независимостью, но только в рамках статей об органах федеральной власти и Билля о правах.
В формулировке источника власти («Мы, народ Соединенных Штатов...») и целей создания Союза также проявился универсализм, истоки которого восходят к присущему протестантизму стремлению улучшить общественные отношения: «образование более совершенного Союза, утверждение правосудия, обеспечение внутреннего спокойствия, организация совместной обороны, содействие общему благосостоянию и обеспечение благ свободы» [3, с. 457]. Сегодня вряд ли можно найти хоть одну национально-культурную идентичность, цели которых прямо или косвенно противоречат целям первой Конституции. Ее содержание явно подразумевало возможность включения в состав Союза на правах штата любой общины, члены которой разделяют положения Основного закона США.
Аналогичных американским и французским Декларациям 1776 и 1789 гг. по наличию в буквальном смысле вселенского энтузиазма мирового масштаба документов не появлялось до 1918 г., который, по общему признанию, явился вершиной кризиса либерально-демократической цивилизации Нового времени. Глобальной попыткой его преодоления путем адаптации политического режима к условиям разложения индустриального общества, по сути, и являлась правовая политика правительства Советской России в период Гражданской войны (1918–1922).
Правительство РСФСР – первого в истории России республиканского федеративного государства – на рассматриваемом этапе выступило в роли носителя глобальных универсалистских, мессианских идей, свойственных европейской интеллектуальной традиции того времени [4, с. 196]. 2 ноября 1917 г. была подписана Декларация прав народов России, в которой было провозглашено право наций на самоопределение. Очевидно, что В.И. Ленин и его единомышленники на новый лад изложили идеи Декларации независимости 1776 г., положившей начало современному политическому федерализму как праву политических субъектов на самоопределение.
Невозможно не обратить внимание на то, что политические иллюзии создателей Конституции США и «кремлевских мечтателей», строивших пер- вое в истории государство «рабочих и крестьян», совпали: и те и другие сч и-тали, что можно просто присоединиться к федерации как к открытой форме политического союза всех стран и народов. Основанием такого заблуждения была вера в общечеловеческую ценность принципов, лежащих в основе либерального эксперимента в США и коммунистического эксперимента в нашей стране [5, с. 101].
Анархические иллюзии большевиков в 1917 г. выражались и во временном отказе от профессиональной армии как от орудия угнетения. Вместо этого был провозглашен принцип «всеобщего вооружения народа», объективно сложившийся в результате последствий трех лет войны. «В первой Конституции РСФСР 1918 г. нет даже слова "государство"» [6, с. 132], а понятие «милиция», которая была учреждена 10 ноября 1917 г., было призвано подчеркнуть ставку претендующего на монополию в понимании справедл и-вости Советского государства на принцип ополчения, естественно следовавший из доктрины «всеобщего вооружения народа». Его классический образец В.И. Ленину и «отцам-основателям» США был известен по республике Древнего Рима.
Второй поправкой к Конституции США конгрессу запрещалось ограничивать «право хранения и ношения оружия для содействия милиции и для обеспечения безопасности свободного государства» [3, с. 438]. И большевики в первые месяцы существования Советского государства делали ставку на «всеобщее вооружение народа» и декларировали отказ от профессионал ь-ной армии как угрозы правам «трудящегося и эксплуатируемого народа». Знаменитая фраза В.И. Ленина «теперь не надо бояться человека с ружьем» также прозвучала на III Всероссийском съезде Советов и выражала универсальную в истории республиканских обществ идею о том, что защита от угнетения требует от гражданина владения военным делом «настоящим образом».
Присущая декларациям большевиков склонность к прославлению труда также восходит к отношению к труду в протестантизме не как к наказанию за грехи, а как к почетному призванию. Сегодня вряд ли возможно ответить на вопрос о том, кто был более последователен в реализации своих целей – западная буржуазия, реализующая в политической борьбе протестантский догмат о творческом и ответственном отношении к индивидуальному труду как личной миссии участия в Промысле Божьем, или «кремлевские мечтатели» эпохи «военного коммунизма», обязавшие советских граждан трудиться во имя реализации идеи социализма в мировом масштабе. Но советское правительство не стремилось и не могло реализовать в своей пол и-тике идеалы личной свободы, поскольку они противоречили как чрезвычайному политическому и экономическому положению Советского государства в период Гражданской войны, так и исторически сложившемуся в России отрицанию ценностей личного труда и неприкосновенности собственности. В этом фундаментальном для формирования конституционного строя вопросе большевики следовали исторически сложившейся традиции внеэкономического принуждения к труду, фактически изначально отрицая конституционную сущность издаваемых ими же нормативных актов. Однако их универсализм выражался в социальном оптимизме на фоне системного кризиса западной модели либерального конституционализма, крайним проявлением которого стала Первая мировая война.
Конституционное оформление советского строя в 1918–1922 гг., реализующего на практике идеалы теорий социализма XIX в., предполагало, на первый взгляд, намного более эффективную социальную программу в условиях повсеместного кризиса политической демократии, проявлявшегося в том, что в условиях войны и всеобщего разорения представители среднего класса – некогда надежной политической опоры буржуазного строя – пополняли ряды трудящихся и эксплуатируемых. С учетом этих факторов и строился ленинский план «кавалерийского набега на капитал» с целью реализации марксистской модели мировой революции одновременно во всех странах. Этот план чуть не осуществился в результате похода большевиков на Варшаву в 1920 г.
Неудачное завершение этой кампании вынудило В.И. Ленина как ведущего «генератора идей» советского конституционализма внимательнее отнестись к идеям либеральной демократии, закрепленным в конституционной модели США, поскольку именно это государство продемонстрировало наибольшую эффективность в их воплощении в социальной практике, и выработать советскую модель конституционного строя, находившуюся под явным влиянием американского конституционного федерализма. Сплочение измученного войнами 1914–1922 гг. общества потребовало сочетания проверенных конституционной историей США принципов свободы и самоопределения с идеалами социализма.
Влияние американского конституционного опыта на процесс разработки советской модели федеративного государства, воплощенной в создании СССР, наглядно проявляется в сходстве идеалов равенства, образования и науки как ведущих «инструментов» преобразования социального строя на более высокой ступени прогресса. Начало Нового времени в истории США и СССР связано с «культом» электричества как основы научного и социального прогресса. Именно научно-технический прогресс формирует экономическую основу политического равенства как основы конституционного развития. Не случайно Б. Франклин – признанный идеолог американского либеральнодемократического федерализма – одновременно является одним из первых инженеров, поставивших электричество на службу обществу. Именно ставка на внедрение технических достижений в массовое производство, обеспечивающее их общедоступность и способствующее демократизации общественных отношений, наряду с другими факторами, обеспечила стремительное развитие американской нации.
Эту закономерность в качестве одной из фундаментальных основ советского конституционного эксперимента учитывал В.И. Ленин. Начало «советской цивилизации» связано с его формулой: «социализм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Стремительное становл е-ние американской и советской наций, история которых начиналась с минимального уровня промышленного производства из-за чрезвычайных условий жизнеобеспечения, было обусловлено освоением электричества.
Культ образования как основа стремительного технического прогресса США с формальной стороны по показателю доступности уступает образованию в СССР, основанному на ленинском лозунге 1919 г. «Учиться, учиться и учиться». Объективным следствием распространения образования и повышения его доступности является увеличение потребностей в расширении возможностей самореализации социально активной части общества. В сфере политических отношений это стремление проявилось в усилении требования политических свобод как наивысшей степени самореализации индивида. С формально-юридической стороны это требование удовлетворяется политической элитой в закреплении индивидуальных прав и свобод в качестве нормативного акта наивысшей юридической силы.
Политические амбиции и стремление к личному участию в осуществлении публичной власти оптимально реализуются путем федеративной формы государственного устройства, при которой государство приобретает форму «сообщества сообществ». Именно она как наилучший вариант сплочения нации под лозунгом «Союз и свобода навсегда!» впервые была реализована в конце XVIII в. в США. И успех поставленного эксперимента стал главным стимулом для В.И. Ленина, внедрившего эту форму государственного устройства в качестве политического фундамента советского «содружества наций». Надо подчеркнуть, что, несмотря на все «отклонения» от «ленинской модели» в пользу исторически обусловленной для российской модернизации диктаторской формы власти одной партии или одного человека, федерализм сохранил свою значимость в советской конституционной истории как стабильный политический идеал. Формально советский идеал федерализма никогда не ставился под сомнение даже в период правления И.В. Сталина, полномочия которого носили практически самодержавный характер.
Таким образом, развитие конституционной истории России проходило под несомненным определяющим влиянием американского варианта федеративного демократического государства, которое естественно ограничивалось различием «социального заказа» со стороны общества. При этом следует подчеркнуть, что именно идеологические основы либерал ь-ной и социалистической демократии являются наиболее сходными, так как исходят из признания необходимости обеспечения свободы личности в социальной практике, расходясь или сближаясь в решении вопроса о предоставлении того или иного объема полномочий правительственным органам, призванным обеспечивать эту свободу на уровне правоприменительной практики.
Очевидный факт признания идеологами советской власти универсальности американского конституционного опыта заключается в том, что по воле В.И. Ленина впервые за всю российскую историю в 1922 г. была учреждена «американская» форма государственного устройства – федерация, до тех пор предлагавшаяся только А.Н. Радищевым и П.И. Пестелем в их несосто-явшихся конституционных проектах. Название нового государства подчеркивало его непохожесть на все «национальные» проекты Нового и Новейшего времени, отличалось от них общечеловеческим мировым размахом, зиждущимся на убеждении в значимости идеи социальной справедливости, заложенной в модель федеративного социалистического государства. Начало Новейшего времени характеризуется в истории именно появлением «советской модели» государства, претендующего, как и американский конституционный универсализм, на выполнение наднациональной функции свершения мировой революции, от которой советское правительство официально отказалось только в 1943 г. Аналогичные по духу и форме черты в мировой истории существуют только в конституционной модели США.
Форма основных источников советского права – декларации и конституция – свидетельствует об их преемственности от «отцов-основателей» США, разработавших универсальные модели социальной справедливости, которые были сформулированы в Декларации независимости США от 4 июля 1776 г. и в Конституции этой страны 1787 г.
Все это свидетельствует о соревновательном настрое советского правительства по отношению к США, уверенности в «преимуществах советского общественного строя» перед западным строем.
Таким образом, созидательное значение советского конституционализма периода Гражданской войны (1918–1922) заключается в том, что первые советские законодатели положили начало конституционной истории России. Часть сформулированных в советских декларациях и конституциях положений и принципов доказала свою универсальность, проявившуюся в том числе в том, что они сохранили свою силу в действующей Конституции РФ. Ведущими из них являются идеалы свободы и равенства, воплощенные в республиканской форме правления и федеративном государственном устройстве.
Список литературы Гражданская война (1918-1922) - начало конституционной истории Российской Федерации
- Рудман М.Н. Декларации прав Нового и Новейшего времени как отражение процесса формирования общечеловеческих ценностей // Актуальные вопросы университетской науки: сб. тр. / гл. ред. В.П. Захаров. Уфа, 2016. Вып. 2. С. 358-369.
- Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2009. 3-е изд., расшир. и перераб. М.: Аспект Пресс, 2010. 846 c.
- Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. М.: Норма, 2003. 744 с.
- Рубинский Ю.И. Большая Европа: этапы становления // Безопасность Евразии. 2008. № 3. С. 195-218.
- Рудман М.Н. Назад - в Федерацию, вперед - в Федерацию // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2013. № 4 (20). С. 98-104.
- Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.