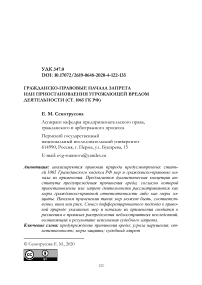Гражданско-правовые начала запрета или приостановления угрожающей вредом деятельности (ст. 1065 ГК РФ)
Автор: Сенотрусова Е.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируются правовая природа предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер и гражданско-правовые начала их применения. Предлагается дуалистическая концепция института предупреждения причинения вреда, согласно которой приостановление или запрет деятельности рассматриваются как меры гражданско-правовой ответственности либо как меры защиты. Началом применения таких мер может быть, соответственно, вина или риск. Смысл дифференцированного подхода к правовой природе указанных мер и началам их применения сводится к различиям в правилах распределения неблагоприятных последствий, возникающих в результате исполнения судебного запрета.
Предупреждение причинения вреда, угроза нарушения, ответственность, меры защиты, судебный запрет
Короткий адрес: https://sciup.org/147230067
IDR: 147230067 | УДК: 347.0 | DOI: 10.17072/2619-0648-2020-4-122-135
Текст научной статьи Гражданско-правовые начала запрета или приостановления угрожающей вредом деятельности (ст. 1065 ГК РФ)
И нститут приостановления или запрета деятельности, создающей опасность причинения вреда, появившись в российском гражданском законодательстве в 1996 г., до настоящего времени относится к наименее изученным. В науке не сложилось единого мнения относительно правовой природы предусмотренных им мер и начал их применения. Одни авторы относят их к мерам защиты, указывая, что они могут применяться к лицу независимо от наличия вины и не влекут для последнего неблагоприятных последствий1, другие – к мерам ретроспективной или проспективной ответственности2.
Между тем существующая теоретико-нормативная конструкция предупреждения причинения вреда не способна регулировать возникающие в этой сфере отношения на должном уровне, а применение к ним иных правовых предписаний по аналогии зачастую делает эту сферу внутренне противо-речивой3.
Решение указанной проблемы видится в разработке дуалистической концепции предупреждения причинения вреда и дифференциации правовых последствий судебного запрета в зависимости от начала его применения4.
Приостановление или запрет деятельности как мера гражданско-правовой ответственности. Юридическая ответственность, будучи базовой категорией правовой науки, на протяжении многих столетий продолжает оставаться предметом оживленных дискуссий. Среди множества подходов наиболее обоснованными представляются классическая теоретико-правовая парадигма юридической ответственности и учения таких выдающихся цивилистов, как О. С. Иоффе, О. А. Красавчиков, В. А. Ойгензихт.
В соответствии с указанной теоретико-методологической основой исследования гражданско-правовой ответственности присущи следующие черты: применение или возможность применения государственного принужде-ния5, отрицательный характер последствий в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей6, негативная реакция государства на поведение лица, его осуждение7.
При раскрытии сущности гражданско-правовой ответственности большинство авторов акцентируют внимание лишь на одном из двух аспектов этого явления: либо на правовом положении потерпевшего лица, либо на положении ответчика. Это ограничивает возможности исследования. Следует учесть оба момента: с одной стороны, имеет значение правовое положение управомоченного лица и возможность его восстановления или сохранения в ненарушенном состоянии, с другой – нельзя забывать, что ответственность предполагает негативные изменения в правовом положении обязанного субъекта и право не может быть безразлично к этому. Только такой подход, как представляется, соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений8.
С учетом этого в рамках предлагаемой нами концепции гражданско-правовая ответственность понимается как обеспеченная государственным принуждением или возможностью его применения негативная, осуждающая реакция государства на правонарушение, выражающаяся в установлении для правонарушителя неблагоприятных последствий в виде лишения (ограничения) субъективного права и возможных сопутствующих обременений или потерь имущественного, организационного или личного характера, которые обеспечивают возможность сохранения положения управомоченного лица в ненарушенном состоянии .
В качестве социально-правовых оснований отрицательной реакции государства на поведение лица следует рассматривать оценку такого поведения как вредного для общества, выражение его недопустимости. Такая оценка должна соответствовать реально существующим общественным интересам, быть согласованной с запретами в других отраслях права и социальными установками. Учитывая изложенное и имея в виду, что угроза причинения вреда сама по себе уже нарушает нормальное состояние существующих право-отношений9, можно утверждать, что препятствий для установления законодателем гражданско-правового деликта создания опасности не имеется. Более того, это полностью соответствует интересам развития современного общества и представлениям большинства его членов, коррелируется с отдельными видами правонарушений и наказаний в административном и уголовном зако-нодательстве10.
Итак, социально-правовыми основаниями закрепления деликта создания опасности11 в частном праве следует признать необходимость предот- вращения причинения вреда и обеспечения реальной защищенности членов общества, создания благоприятного климата для предпринимательской и прочей экономической деятельности. Такой деликт в качестве элементов включает в себя действия (бездействие) лица, угрозу причинения вреда и причинную связь между ними, а также вину как основное начало применения указанных в статье 1065 Гражданского кодекса РФ мер.
Рассмотрение предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер в качестве мер ответственности требует обоснования их негативного характера, выражающегося в лишении лица принадлежащего ему субъективного права (его ограничении) и сопутствующих расходах или потерях12.
При установлении постоянного или временного запрета осуществления деятельности правоспособность ответчика не затрагивается, поскольку лицу запрещается осуществлять не определенный вид деятельности в целом, а конкретную начатую или планируемую деятельность с вполне конкретными заданными параметрами13. Входящей в содержание правоспособности абстрактной возможностью совершать ту или иную деятельность не может быть создана реальная угроза причинения вреда в отношении конкретного права (блага). Угроза всегда создается конкретной деятельностью. При введении запрета или приостановления деятельности лица речь идет не об ограничении правоспособности, а о лишении (ограничении) самого субъективного права14.
Реализация данной меры может повлечь для лица незапланированные убытки (необходимость консервации объекта, расторжения договоров, связанных с сопровождением и обеспечением спорной деятельности, выплаты неустоек или штрафов, порча продуктов питания в связи с приостановлением деятельности кафе или магазина, др.), невозможность получения дохода, необходимость несения иных затрат (выплаты работникам в связи с вынужденным простоем и проч.).
Негативный характер предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер требует серьезной разработки начал их применения, что, к сожалению, игнорируется отечественным законодателем15. В качестве основного такого начала, как указано выше, мы предлагаем рассматривать вину.
В цивилистике предложено множество подходов к сущности категории вины от ее объективизации и поглощения категорией противоправности16 до признания в качестве таковой психического отношения индивида к своему поведению и его последствиям17.
Легальное определение вины в гражданском законодательстве не может рассматриваться в качестве ориентира при решении научных проблем и нуждается в пересмотре18. Так, в статье 401 Гражданского кодекса РФ вина определяется через категории заботливости, осмотрительности и принятия надлежащих мер, что характерно для объективистского подхода. Вместе с тем при определении форм вины (умысла и неосторожности) законодатель прибегает к классической субъективистской концепции. К предложенному законодателем «смешанному» подходу возникает много вопросов. Так, законодателем не раскрыта умышленная форма вины, не указаны ее интеллектуальная и волевая составляющие, ее виды. Буквальное прочтение статьи 401 Гражданского кодекса РФ в части указания категорий заботливости и осмотрительности позволяет говорить об отождествлении вины в целом с неосторожностью как одной из ее форм. Более того, в законе не содержится указания на конкретные виды неосторожной вины, которая может существовать либо в виде легкомыслия или небрежности, либо в виде грубой и простой формы.
Отсутствие ясности положений гражданского законодательства о формах и видах вины, необдуманное смешение законодателем противоположных теоретических подходов оказали негативное влияние на судебную практику. В большинстве случаев суды либо ограничиваются предложенными высшей инстанцией формулировками о непрезюмируемости вины19, либо вовсе не исследуют эту категорию. Изучение единичных решений, где категория вины все-таки была затронута, показывает, что вина устанавливается исходя из произвольных и зачастую неверных критериев.
Роспотребнадзор обратился в суд с требованием о запрещении ИП М. осуществлять деятельность по изготовлению продукции общественного питания на определенном объекте. Установлено, что ответчик в период с 2012 по 2014 г. допускал неоднократные и многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, неоднократно привлекался в связи с этим к административной ответственности. Проведенной в 2015 г. проверкой установлено, что большая часть нарушений осталась не-устраненной. Решением суда требования контрольно-надзорного органа удовлетворены, решение оставлено в силе судом вышестоящей инстанции.
Само по себе окончательное решение судов не вызывает нареканий, однако нельзя не отметить, что при рассмотрении этого дела суды так и не смогли раскрыть вину ответчика надлежащим образом. Так, суд указал, что «…вина ответчика заключается в том, что, несмотря на возможность соблюдения санитарных правил, эксплуатация объекта общественного питания умышленно осуществляется в прежнем режиме, с грубым нарушением санитарных правил, неся в себе угрозу причинения здоровью граждан». Судом не исследовано отношение лица к своим действиям и созданной ими угрозе, однако большое внимание уделено его деловой репутации: «…ИП М. неоднократно игнорировал предписания административного органа либо исполнял их частично, что отрицательно характеризует предпринимателя как хозяйствующий субъект на рынке общественного питания…», «…предприниматель не проявил себя как добросовестный субъект на рынке общественного питания, не учел и не устранил по настоящее время все выявленные нарушения»20.
Не вдаваясь далее в проблематику категории вины, отметим, что, на наш взгляд, в отношениях по предупреждению причинения вреда должна применяться объективистская концепция вины как отступления от стандарта поведения обычного разумного участника оборота 21, но с учетом некоторых индивидуальных особенностей ответчика. Поскольку в гражданском праве «…ни квалификация правонарушения, ни объем имущественной ответственности <…> от степени виновности не зависят…»22, для него требуется более упрощенная схема форм и видов вины (умысел, грубая и простая неосторожность), а для института предупреждения причинения вреда следует отказаться и от деления неосторожности на виды.
Итак, с учетом существенных различий между уголовным (по сути задающем тенденцию субъективизации вины в целом) и гражданским правом23 полагаем возможным согласиться с В. А. Беловым в том, что в гражданском праве для обнаружения вины достаточно «…установить определенные масштабы поведения лица, соизмерить его поступки с тем, как должно было бы действовать любое другое лицо, окажись оно на месте правонарушителя»24. В целях соблюдения принципа справедливости при определении среднего типа поведения следует учитывать такие особенности субъекта, как его возраст, уровень образования25, профессиональные навыки, состояние здоровье и проч. В ряде случаев стандарт поведения закреплен в специальном законодательстве (например, требования пожарной безопасности, межгосударственные стандарты).
В случае виновного и противоправного создания опасности применение предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер представляется обоснованным, а все неблагоприятные последствия исполнения судебного запрета возлагаются исключительно на виновное лицо .
Исходя из положений статьи 1065 Гражданского кодекса РФ, применение предусмотренных ею мер допустимо как при наличии вины, так и при ее отсутствии. Вместе с тем одинаковое применение мер с неблагоприятным характером к виновному и невиновному лицам (без какой-либо дифференциации) представляется не соответствующим принципам гражданского зако-нодательства26. Указанное требует рассмотрения запрета (приостановления) деятельности в качестве мер защиты и поиска иного, отличного от вины, начала их применения.
Вопрос о понятии мер защиты и их разграничении с мерами ответственности относится к числу наиболее дискуссионных. Одни авторы в качестве квалифицирующего критерия указывают отсутствие неблагоприятных последствий для обязанного лица27, другие допускают возможность применения таких последствий, а в качестве отличительного признака называют отсутствие вины28. Ряд цивилистов говорит о применении мер защиты независимо от вины причинителя вреда29, что еще больше размывает границу между мерами защиты и ответственности.
Д. Н. Кархалев к основным критериям разграничения мер защиты и мер ответственности относит основание и условия применения мер принуждения (соответственно, правонарушение как виновное противоправное поведение и безвиновное противоправное поведение), наличие или отсутствие неэквива-летного имущественного обременения30.
Автор отмечает, что меры защиты, к числу которых он относит прекращение или приостановление деятельности в соответствии со статьей 1065 Гражданского кодекса РФ, по своему содержанию не являются неэквивалет-ным имущественным лишением и характеризуются отсутствием осуждения поведения обязанного лица31. Применение мер защиты может сопровождаться определенным нежелательным воздействием на нарушителя, но в отличие от мер ответственности не оказывает существенного влияния на имущественное положение и результаты хозяйственной деятельности32.
Спорным представляется то, что автор не расценивает прекращение или приостановление деятельности как неэквивалентные неблагоприятные последствия для обязанного лица. Подобная мера принуждения, как указывалось выше, представляет собой лишение или ограничение субъективного гражданского права33 и способна оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовую сферу лица (упущенная выгода в связи с неоказанием услуг на время приостановления деятельности, срыв исполнения заключенных договоров, порча уже изготовленной и скоропортящейся продукции, подрыв деловой репутации и др.). На необходимость учета обстоятельств, касающихся правового положения лица, в отношении которого устанавливается запрет, указывают и иностранные юристы. Nicholas J. McBride и Roderick Bagshaw отмечают, что судебные запреты существенно ограничивают свободу тех, против кого они установлены, и обременяют сильнее, чем присуждение убытков. Суд должен сравнить пропорциональность бремени и лишений, которые понесет ответчик в случае установления запрета, с теми, которые испытает истец в случае отказа в установлении запрета34. Схожая позиция прослеживается и в решениях иностранных судов35.
По существу, ключевое различие между правонарушением и противоправным поведением, по мнению Д. Н. Кархалева, сводится к наличию или отсутствию вины36. Вместе с тем в положениях статьи 1065 Гражданского кодекса РФ, предусмотренные меры которой Д. Н. Кархалев относит к мерам защиты, о вине не упоминается вовсе. Возникает некое противоречие, поскольку из категоричного вывода автора следует, что применение предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер даже в случае виновного создания угрозы следует относить к мерам защиты. Кроме того, зачастую поведение лица, ставшее основанием возникновения угрозы, заслуживает осуждения, а в качестве начала применения мер ответственности многие авторы рассматривают не только осуждение, но и необходимость стимулирования37.
К сожалению, приходится констатировать, что поиск критериев разграничения мер защиты и мер ответственности на сегодняшний день основан на произвольном отнесении к ним тех или иных предусмотренных законом мер принуждения. Законодатель, устанавливая меры принуждения, нередко не привязывает их к отсутствию или наличию вины в поведении обязанного лица. При таком положении дел доктринальное выделение только критерия вины не имеет практического значения. Так, для обязанного лица не имеет существенного значения наименование тех негативных последствий, которые будут к нему применены, если их содержание от этого не изменится. Еще более безразлично данное обстоятельство для реального или потенциального потерпевшего. Иными словами, в большинстве случаев отсутствие вины не гарантирует причинителю вреда более благоприятных последствий своего вредоносного поведения . Это обстоятельство обуславливает необходимость либо отказа от категории мер защиты, либо наделения этой категории специфической чертой, имеющей значение в практической деятельности. В качестве таковой предлагаем рассматривать предоставление обязанному лицу права требовать разделения отнесенных на него дополнительных негативных последствий с управомоченным лицом.
В данном случае началом применения негативных последствий следует признать риск как возложенную на лицо в силу указания закона обязанность устранения негативных последствий его действий (бездействия), в отношении которых презюмируется возможность (вероятность) их наступления и предотвращение которых возможно только в результате повышенного, не типичного для обычного поведения участников оборота уровня заботливости. Решение вопроса о допущении наступления негативных последствий требует тщательного анализа фактических обстоятельств дела38, некоторыми же вероятностями следует пренебрегать39.
Таким образом, применительно к институту предупреждения причинения вреда меры защиты могут быть охарактеризованы следующим образом:
-
1. Представляют собой обеспеченную государственным принуждением или возможностью его применения реакцию на невиновное противоправное поведение.
-
2. Направлены на сохранение положения потенциального потерпевшего в ненарушенном состоянии.
-
3. Выражаются в установлении для правонарушителя неблагоприятных последствий в виде лишения (ограничения) субъективного права и в сопутствующих обременений и потерях.
-
4. Обязанному лицу предоставляется право требовать уменьшения возлагаемых на него дополнительных негативных обременений, их распределения между ним и потенциальным потерпевшим .
Для иллюстрации применения предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер на началах системы риска немного изменим фактические обстоятельства реального судебного спора40.
Д. обратилась в суд с иском к Ш. с требованием о демонтаже пасеки на принадлежащем ответчику земельном участке в связи с наличием у нее аллергической реакции на укус пчел. Суд указал, что, поскольку у Д. имеется аллергическая реакция на пчелиный яд, а размещение пасеки на соседнем участке создает угрозу для ее здоровья, иск подлежит удовлетворению. Соблюдение ответчиком ветеринарно-санитарных правил содержания ульев с пчелосемьями само по себе не является безусловным основанием для отказа в иске при наличии угрозы для здоровья истца. Представим, что Д. приобрела участок у М. в 2018 г. и на следующий день после оформления права собственности и переезда на приобретенный участок обратилась в суд с требованием о прекращении пчеловодства Ш. Ответчик о смене собственника участка и наличии у него аллергии осведомлен не был.
Полагаем, при таких обстоятельствах началом применения такой меры послужит не вина, а риск. Так, Ш., осуществляя деятельность по разведению пчел, не может не осознавать возможность наступления аллергии на яд пчел у других лиц и, осуществляя такую деятельность, принимает на себя риск неблагоприятных последствий в подобной ситуации. Обычная модель поведения разумного участника оборота, осуществляющего такую деятельность, предполагает соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания ульев с пчелосемьями, которые и были соблюдены ответчиком. Федеральное законодательство не содержит запрета на размещение пасек в непосредственной близости с участками граждан, имеющими аллергию на укусы пчел. Законодательство отдельных регионов, устанавливая подобный запрет, не устанавливает требований к порядку и периодичности сбора сведений о наличии аллергии у соседей41. Обычный уровень заботливости пчеловода не предполагает ежедневного или еженедельного сбора информации о состоянии здоровья соседей, о смене собственников земельных участков. Безусловно, поскольку при изложенных обстоятельствах угроза причинения вреда здоровью истца имеется, запрет должен быть установлен. Вместе с тем с учетом отсут- ствия вины ответчика и принятия им обычных мер по предупреждению причинения вреда ему должно быть предоставлено право требовать рассмотрения судом вопроса о распределении дополнительных негативных последствий исполнения судебного запрета. Иными словами, ответчик обязан прекратить деятельность по пчеловодству, а возникшие в связи с этим потери могут быть частично или полностью (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) переложены на истца.
Таким образом, институт предупреждения причинения вреда построен на сочетании двух начал: начал ответственности и начал несения риска. Признание двуединого начала предусмотренных статьей 1065 Гражданского кодекса РФ мер обеспечивает дифференциацию правовых последствий их применения.
Список литературы Гражданско-правовые начала запрета или приостановления угрожающей вредом деятельности (ст. 1065 ГК РФ)
- Белов В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2 т. / под общ.ред. В. А. Белова. М.: Юрайт, 2016. Т. 2.
- Бондаренко С. С. Предупреждение причинения вреда (статья 1065 ГК РФ) // Современное право. 2008. № 8.
- Борисова Е. Е. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда окружающей природной среде: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002.
- Бутенко Е. В. Вина в нарушении договорных обязательств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.
- Варул П. А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. Таллин: [б.и.], 1986.
- Гусева Е. А. Предупреждение причинения вреда вследствие деятельности, представляющей повышенную опасность для окружающих, по гражданскому праву: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
- Ершов О. Г. О развитии цивилистической теории внедоговорных отношений по предупреждению причинения вреда при строительстве // Основы экономики, управления и права. 2013. № 2 (8).
- Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.
- Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1954.
- Кархалев Д. Н. Соотношение мер защиты и ответственности в гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
- Кичигин Н. В. Приостановление, ограничение, прекращение экологически опасной хозяйственной деятельности: мера юридической ответственности или способ предупреждения причинения экологического вреда? // Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии: сб. матер. Междунар. науч. конференций / отв. ред. С. А. Боголюбов, Н. Р. Камынина, М. В. Пономарев. 2019.
- Климович А. В. Обязательства по предупреждению причинения вреда в гражданском праве России // Сибирский юридический вестник. 2016. № 3.
- Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 1966.
- Кузнецова О. А. Научная проблема и названия цивилистических исследований // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 4 (22).
- Кузнецова О. А. Нормы-принципы российского гражданского права. М.: Статут, 2006.
- Кузнецова О. А. Совершенствование института ответственности за нарушение обязательств: законодательные итоги и новые научные проблемы // Вопросы российской юстиции. 2015. № 2 (2).
- Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М.: Наука, 1968.
- Малеин Н. С., ШиминоваМ. Я. Эффективность предупреждения правонарушений, возникающих из причинения вреда // Проблемы искоренения правонарушений в СССР: тезисы докладов на научной конференции. М.: [б.и.], 1971.
- Мартиросян А. Г. Соотношение вины и риска в гражданском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 7.
- Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе: Ирфон, 1972.
- Стоякин Г. Я. Меры защиты в советском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1972.
- Хохлов В. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: дис. ... д-ра юрид. наук. Самара, 1998.
- Шварц Х. И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939.
- Fritzsche J. Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage. Berlin: Springer, 2000.
- Nicholas J. McBride, Roderick Bagshaw. Tort Law. Pearson Education Limited, 2018.