Гуманитарное знание и современность
Автор: Александрова Р.И.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Гуманизация и гуманитаризация образования
Статья в выпуске: 1 (13), 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147135249
IDR: 147135249
Текст статьи Гуманитарное знание и современность
Мы отдаем себе отчет в том, что тема, вынесенная в качестве заголовка данной статьи, слишком сложна, многоаспектна, чтобы быть решаемой в рамках журнальной публикации. Своей задачей мы считаем вызвать дискуссию по сути тех проблем, которые сегодня актуальны.
Анализ литературы, увидевшей свет в 90-е годы, в которой в той или иной степени ведется речь о гуманитарном знании, позволяет вычленить блок некоторых характерных, чаще всего обсуждаемых вопросов.
Во-первых, авторы концентрируют внимание на состоянии и новой роли гуманитарного образования и воспитания (см., например: Шаповалов В. Ф. О специфике гуманитарного знания / / Общественные науки и современность. 1994. № 1; Александрова Р И. Проблемы естественно-научного и гуманитарного познания И Обновляющаяся Россия: формирование нового гуманитарного пространства. Саранск, 1997 и др.)
Во-вторых, обсуждаются вопросы кризисного состояния парадигм гуманитарного знания и пути выхода из него (см. об этом: Перестройка и нравственность: (Материалы круглого стола) // Вопр. философии. 1990. № 7; Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Общественная наука и практика // Там же. № 12 и др.).
К третьему кругу проблем можно от нести особенности гуманитарных ценностей российского образования и воспитания, необходимость их изучения и приобщения к образовательному процессу (см.: Шаповалов В. Ф. Неустранимость наследия // Общественные науки и современность. 1995. № 1).
Четвертая тема обусловлена предвосхищением перемен в гуманитарных дисциплинах в связи с ситуацией конца века, конца тысячелетия (см.: Лотман Ю. Клио на распутье // Наше наследие. 1990. № 2; Моисеев Н. Н. Мир XXI века и христианская традиция // Вопр. философии. 1993. № 3 и др.).
Активно обсуждается и процесс единения гуманитарных, естественных, технических наук как жесткое требование времени, один из элементов стратегии выживания. На сей счет существует многочисленная литература. Мы также высказали свое отношение к данной теме в упомянутой выше статье.
Естественно, речь идет и о других проблемах, хотя каждая из вышеперечисленных заслуживает тщательного рассмотрения, поскольку многоаспектна. Остановимся на некоторых из названных вопросов.
Анализ точек зрения на причины кризисных состояний современных социогу-манитарных наук можно развернуть в пространстве объективных и субъектив- ных причин. Не абсолютизируя значимости последних, тем не менее начнем разговор с них.
Очевидно, новое мировоззрение никогда не возникает на пустом месте, оно всегда прорастает из старого и несет на себе печать этого старого. Ростки новых мировоззренческих ориентаций на первых порах, а может быть и в течение длительного времени, развиваются в старых формах. Сошлюсь на мнение одного из талантливых философов современности Г С. Батищева: „На всех нас лежит печать предшествующего периода нашей истории — печать деформированности...“ (Перестройка и нравственность // Вопр. философии. 1990. № 7. С. 15). Об этом же пишет известный историк А. Я. Гуревич, обращая внимание на то, что сдвиги, происходящие в историческом знании, „...не вполне осознаются должным образом ни самими историками, скованными силой традиции, привычными взглядами на свое ремесло, ни теоретиками, по большей части также придерживающимися унаследованного понимания задач Клио“ (Историческая наука и историческая антропология // Вопр. философии. 1988. № 1. С. 56).
Обратимся теперь к рассмотрению тех мнений, что более всего связывают кризисные состояния с объективными причинами. Генеральный директор Российского гуманитарного фонда Е. В. Семенов констатировал в 1997 г.: «Гуманитарные и социальные науки испытывают на себе те же тяготы, что и вся наука, но усиленные их статусом „второстепенных наук“, положением наук, о которых чаще всего забывают. По этой причине гуманитарный сектор науки нуждается в большей защите со стороны научного сообщества, чем естественные и технические науки» (Современное состояние и новая роль гуманизма и социальных наук // Общественные науки и современность. 1997. № 1. С. 7).
Большинство авторов кризис гумани-тарности усматривают в крушении прежнего мировоззрения с его системой идеалов, ценностей, ориентировавших личность на приоритеты социальных, идеологических, политических интересов государства, партии, классов. Такую позицию можно квалифицировать как ностальгическую. Характерна в этом отношении точка зрения известного специа листа в области социальной философии В. Н. Шевченко. Он пишет: „Как это ни парадоксально, но Советский Союз до начала 90-х годов оставался в Европе последним островком новоевропейского гуманизма. Островком в том смысле, что социалистическая культура являлась в стране не только средством идеологической обработки населения в духе идей коммунистической партии, но и выразителем гуманистических устремлений общества” (Антропология и гуманизм // Гуманизм и здравый смысл. 1997. № 2. С. 58). В таком же ключе высказались авторитетные философы В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон в упомянутой выше статье „Общественная наука и практика“
Другие авторы, напротив, считают, что именно доминирование в течение длительного времени упрощенно-методо-логического подхода, механистического миропонимания привело к кризисному состоянию в обществоведческих, гуманитарных дисциплинах. Историк В. А. Тишков высказал такую точку зрения: „Советское обществоведение нуждается в качественно новых теоретических подходах, которые рассматривали бы общество не просто как некую совокупность социальных организаций, институтов и групп, в основе функционирования которой лежат классовые и. другие социальные противоречия, а как сложную самооргани-зующую систему, в которой важную роль играют общие законы адаптивного поведения... “ (Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе // Вопр. философии. 1990. № 12. С. 3). Р. А. Куренкова увязывает кризисное состояние гуманитарности с господством официальной государственной идеологии, не оставляющей места даже для теоретического обоснования несанкционированного проявления уникально-личностного (см.: Философия образования и методологическая культура учителя // Интеграция образования. 1997. № 1/2. С. 64).
В печати начиная со второй половины 80-х годов было много публикаций, в которых писатели, педагоги, ученые с тревогой писали о сокращении объема и снижении качества преподавания истории, литературы, русского и иностранного языков. Известно, что в России традиционно классическая литература была тесно связана с педагогикой, психологией, философией. Они были объединены гуманистическим содержанием своих предметов и тем самым формировали в общественном сознании духовные ценности. К сожалению, единство это было разрушено.
Об антифилологическом характере образования и воспитания еще в 1919 г. писал поэт О. Мандельштам, сравнивая школьную реформу в новой России с „реформой школ" первого гуманистического ренессанса: „...бросается в глаза преодоление филологии... Филологическое оскудение школы, которого следует ожидать в ближайшем будущем, в значительной степени плод сознательной школьной политики, это неизбежное следствие нашей реформы; отчасти в этом ее дух11 (Государство и ритм // Фи-лос. науки. 1988. № 12. С. 83).
О пагубности нигилистического отношения к культуре в целом писал М. М. Бахтин в ранней работе „Искусство и ответственность" В ней шла речь о том, что различного рода знания, предметом которых является человек, владеющий речью, словом, отгораживаются друг от друга, обесценивая тем самым свое культурное поле. Ныне ряд авторов сетует именно на данное явление. Так, явно ослабло внимание к педагогике как искусству передачи знания, навыков, опыта вообще. Данной проблематике посвящено, в частности, диссертационное исследование Г Г. Сорокиной „Ценности и идеалы российского губернского образования", защищенной в диссертационном совете по этике в Мордовском университете. В философских дисциплинах резко проявляется дистанцирование этики, эстетики, истории философии друг от друга. Философы сочли себя вообще свободными от необходимости опираться на нравственный фундамент. Они не пользуются таким духовным пластом России, как „нравственная философия"
Снижение содержательной стороны гуманитарности усматривается и в том, что оно не успевает за общецивилизационными сдвигами, связанными с внедрением таких составляющих дня сегодняшнего, как телекоммуникации, компьютеризация, Интернет. Дети растут в совершенно ином мире, чем тот, в котором росли их родители, — у них другие игры, другие герои, другие приоритеты и ин тересы. Характерно, что обеспокоенностью данным явлением, которое сопровождается технократическим стилем мышления и поведения, отмечены работы прежде всего представителей естественных, технических наук.
В начале 90-х годов в психологии наметилась тенденция к единению с этикой. Впервые эта' идея была выражена Б. С. Братусем в статье „Опыт обоснования гуманитарной психологии" (Вопр. психологии. 1990. № 6). Через пять лет Л. И. Воробьева в том же издании публикует статью „Гуманитарная психология: предмет и задачи" Журнал „Человек" поддерживает инициативу, развертывая в 1998 г. дискуссию на эту тему в первом и втором номерах. Принявшие участие в ней специалисты не высказали возражений против подобной постановки вопроса. Слияние этики и психологии в единое нравственное пространство видится психологами в наличии „некоей общей, единой территории, предмета (причем не второстепенного, а существенного), который одновременно должен принадлежать как психологии, так и этике. Таковой территорией является отношение человека к другому" (Братусь Б. С. Возможна ли нравственная психология? / / Человек. 1998. № 1. С. 57). Собственно, это важнейший принцип гуманитарного знания, любовно пестуемый отечественными мыслителями А. А. Ухтомским, М. М. Бахтиным, С. Л. Рубинштейном, Л. С. Выготским и др.
К сожалению, философы, этики пока не приняли участия в обсуждении проблем связи психологии и этики. Последняя оказывается по отношению к первой не только нормативной, абстрактно принудительной, но и „разрабатывающей, указующей те же вектора, которые в основном и главном совпадают с предельной ориентацией, векторами нормального психологического развития" (Братусь Б. С. Там же). Известный историк А. Я. Гуревич в уже цитировавшейся нами статье утверждает, что утрата историей „нравственного пафоса" привела к потере человека в истории и „потому перестала быть и наукой для человека"
Принцип полидисциплинарности все громче выдвигается представителями различных дисциплин, поскольку, по их мнению, существуют единые методологи- ческие принципы относительно единого предмета исследования — Человека, „выразительного, говорящего бытия", по словам Бахтина. Так как гуманитарное знание претендует на статус науки, оно не может обойтись без теоретических обобщений. В них же не должно быть места для индивидуальных пристрастий и произвола. Здесь важна установка на некоторую дистанцированность от изучаемого материала. В то же время история и опыт свидетельствуют, что в гуманитарном знании трудно быть бесстрастным исследователем, наблюдателем, не вносить в процесс познания собственные переживания. Здесь действуют всеобщие механизмы сознания. Другое дело, что человеку дано в какой-то мере нейтрализовать эти механизмы.
Субъективность как фактор, не устранимый из познавательного акта, философом В. Ф. Шаповаловым ставится в зависимость от вопроса „кто говорит?", „кто владеет словом?*. Собственно, еще Ф. Ницше связывал ответ на этот вопрос с решением проблемы генеалогии моральных понятий. Принципы морали, философские истины рождаются в „осевое время", по К. Ясперсу, „звездными часами человечества", по С. Цвейгу, „трагедией истории", по Л. Шестову. Почвой для объединения писателя, художника, поэта, философа, священника выступает рефлексивная забота о добывании, оформлении новых духовных, экзистенциальных основ бытия, опыта жизни.
Отсюда естественно возникает вопрос, который ныне обсуждается: „что есть минимум содержания гуманитарного образования?" А. В. Рубцов и Б. Г. Юдин относят к нему знания об обществе, умения и навыки социальных взаимодействий, т. е. все то, что необходимо для самостоятельной жизни а) в гражданском обществе и б) в высокотехнологизирован-ном мире.
Гуманитарное образование включает два вектора. Один из них связан с сохранением традиций, передаваемых из поколения в поколение. „Второй вектор ориентирован на современность и на предвидимое, прогнозируемое будущее, то есть он более непосредственно связан не с собственно гуманитарной, а с социальной составляющей содержания обг разования" (Рубцов А. В., Юдин Б. Г.
Новые ориентиры гуманитарного образования // Человек. 1995. № 2. С. 138 — 139). Думается, что вопрос о мере гума-нитарности должен быть более четко ориентирован на учет обнаруживаемых и учитывающихся в нем человеческих смыслов. Через понятие гуманитарности становится возможным раскрытие связей всякого знания, например научного с общегуманитарными понятиями, такими, как человеколюбие, сочувствие, сострадание, милосердие. В гуманитарности находят свое отражение проблемы человеческой свободы и ответственности. Можно сказать, что вся гуманитарная деятельность — это зона ценностного отношения. В результате ценностного поиска в гуманитарном знании мы начинаем понимать „нечто" как ценность.
Кризис в гуманитарных науках связан с односторонним акцентом на научном знании, при этом вопрос о ценностях остается в стороне. Система их всегда вырабатывалась прежде всего гуманитарным знанием и служила смягчению нравов, достижению взаимопонимания между людьми, народами. В этом цель, смысл, содержание гуманизма. В линии, идущей от рационально-логического — научного познания, итогом будут, конечно, знания, открытие истины, причин, закономерностей тех или иных явлений, а главное, появление потребности, способности людей их использовать для достижения утилитарных целей.
Возвеличенный в культ разум предписывал истории законы, уничтожая в человеке его подлинно духовную сущность, лишая его возможности быть творцом самого себя. А это обернулось потерей уважения к человеческой жизни. Она превратилась лишь в средство достижения великих целей. Н. А. Бердяев в „Смысле истории" этот процесс называет „религией прогресса" „Прогресс, — читаем в этой работе, — превращает каждое человеческое поколение, каждое лицо человеческое... в средство и орудие для окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела" (Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 101)..
Философский подход — это гуманитарный подход, который позволяет воспринимать человека в качестве субъекта, обращенного на себя, рассматривающего весь беспредельный мир по отношению к себе. Человеческая позиция не просто познается, но выступает как точка отсчета, отправной пункт видения и понимания всего остального. Философское мировоззрение расценивает мир не только как „окружение**, но и, по Вл. Соловьеву, как „умственное окошко в мир**
В самой природе гуманитарного знания, в том числе и философского, заложено апеллирование к целостности внутреннего мира человека, вклю чающего глубоко личностную и эмоционально переживаемую потребность в осмыслении истины, добра, красоты. Специфику гуманитарного знания невозможно раскрыть минуя его субъективноличностный план. Гуманитарное знание живет, сберегается и осваивается лишь как личностное знание, идущее от личности к личности. Поэтому гуманитарное знание, в отличие от конкретного, — не монолог, а диалог, как это обосновывает М. Бахтин. Говоря словами Фихте, каков человек — такова и философия.
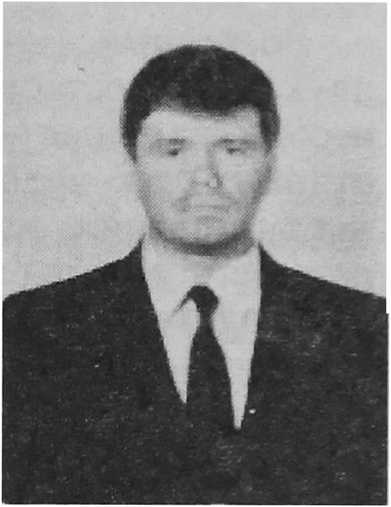
ГУМАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
На рубеже тысячелетий эйфория от беспрецедентных успехов научно-технического прогресса и вера во всесилие науки постепенно сменились серьезной озабоченностью по поводу перспектив развития нашей цивилизации. Возможность самоуничтожения человечества вследствие совершенствования энергетических мощностей и возрастания разрушительной силы оружия, нарастание дефицита природных ресурсов и неизбежное усиление борьбы государств за доступ к ним, грозящее превратиться во всеобщую экологическую катастрофу смещение экологического равновесия, чудовищное социально-экономическое неравенство как между отдельными людьми, так и между целыми государствами — вот далеко не полный перечень связанных с развитием науки и техники проблем, по своей важности сопоставимых с вопросами продолжения существования не только человека как биологического вида, но и биосферы в целом. Из панацеи от всех бед наука и техника превратились в „антигуманных монстров**, таящих в себе смертельную угрозу для всего живого, и прежде всего для самого человека.
Во второй половине нашего столетия был осуществлен целый ряд получивших широкую известность во всем мире исследований по проблемам дальнейшего социально-экономического развития мирового сообщества, в частности Дж. Форрестера, Д. Медоуза, М. Месаровича, Э. Пестеля, Б. Коммонера и др. В качестве лейтмотива всех этих работ звучат тезисы о необходимости искусственного


