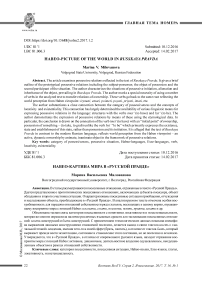Habeo-картина мира в "Русской правде"
Автор: Милованова Марина Васильевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются посессивные отношения, отраженные в тексте «Русской Правды». Дается представление о прототипических посессивных отношениях, включающих субъекта-посессора, объект обладания и второго участника ситуации. Охарактеризованы посессивные ситуации приобщения, отчуждения и наследования объекта, преобладающие в «Русской Правде». В анализируемом тексте отмечена особая востребованность для передачи отношений собственности ряда глаголов, восходящих к одному корню, отражающему восприятие мира с позиций Habeo: изымати, емати, поимети, пояти, прияти, имати и др. Обоснована тесная связь категории посессивности с понятиями локативности и экзистенциальности, которая во многом определила наличие различных языковых средств для экспликации посессивных отношений: иметь-конструкций и быть-конструкций. С привлечением этимологических данных показана специфика выражения данными конструкциями отношений посессии, делается вывод о связи глагола иметь с «начальной точкой» владения, имения чего-то в своей сфере (брать, хватать), в отличие от глагола быть, который выражает прежде всего экзистенцию, состояние и становление этого состояния, но не посессию и ее начало. Утверждается, что в «Русской Правде», в отличие от современного русского языка, находит отражение восприятие мира с позиций Habeo: активное, динамичное, деятельностное владение одушевленным, неодушевленным объектом в рамках отношений собственности.
Категория посессивности, посессивная ситуация, habeo-языки, esse-языки, глагол, локативность, экзистенциальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14970038
IDR: 14970038 | УДК: 81’1 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.1.2
Текст научной статьи Habeo-картина мира в "Русской правде"
DOI:
«Русская Правда» относится к числу памятников, которые исследованы специалистами различных областей научного знания, поскольку, несмотря на небольшой объем, содержит ценный материал исторического, правового, культурологического, филологического характера.
Центральное место в данном памятнике занимают отношения собственности. Понятие владения, собственности является одним из основополагающих в процессе познания человеком окружающей действительности и находит отражение во всех естественных языках. Данное понятие находится, безусловно, в сильной зависимости от культуры, особенностей менталитета носителей языка.
Институт собственности имеет длительную историю развития. На протяжении всей своей жизни человек всегда чем-то и кем-то владел. Вместе с развитием института собственности развивались и средства отражения этого понятия в языке.
В тексте «Русской Правды» в рамках института собственности представлено именно то, что было актуальным и востребованным для носителей языка периода XI–XII веков. Нам представляется интересным обратиться к «Русской Правде» как к тексту, в котором нашла яркое отражение так называемая Habeo-картина мира.
Понятие собственности составляет основное содержание универсальной категории посессивности. Именно представленность в языках категории посессивности позволяет провести деление на Habeo- и Esse-языки. В Habeo-языках (например, немецком, английском) центральной посессивной конструкцией является конструкция с глаголом иметь , которой в Esse-языках (например, русском) соответствует конструкция с глаголом быть . Следует заметить, что глагол иметь в Esse-языках также может быть употреблен в посессивной конструкции, ср.: У меня есть недвижимость – Я имею недвижимость , однако такие предложения обычно характеризуют как стилистически маркированные (книжные).
Habeo и Esse – это особый, отличающийся взгляд на мир и свое место в нем. Русский язык ученые традиционно относят к Esse-языкам. Однако, как отмечает Н.Д. Арутюнова, «в древнерусском языке глагол им4ти был широко распространен в разных значениях и такая его широкая представленность позволяет говорить о древнерусском языке как о языке смешанного типа» [Арутюнова, 1999, с. 791].
Как же развивались в русской лингвокуль-туре представления о посессии? Прежде чем обратиться к материалам «Русской Правды» (Краткой и Пространной редакций), рассмотрим ключевые аспекты универсального понятия «посессивность».
Посессивность в самом общем виде представляет собой выражение отношений между двумя сущностями – посессором и объектом посессивности, первый видится имеющим некоторые отношения со вторым, находящимся в непосредственной близости или под контролем первого. В силу своей значимости и объемности для концептосфе-ры человека данное понятие трактуется как категория.
Категория посессивности предполагает посессивные ситуации, которые весьма разнообразны и могут включать различные действия субъекта; указание на возможное месторасположение объекта; второе лицо, от которого субъект отчуждает объект либо кому объект передается, и другие параметры. Иными словами, посессивную ситуацию можно представить следующим образом: существует некий объект, который субъект взял или получил, который расположен в сфере существования субъекта, который может регулярно сопровождать субъекта в определенных случаях и может интерпретироваться как принадлежащий субъекту.
Посессивная ситуация отражает посессивные отношения, которые и составляют основу категории посессивности. Прототипические посессивные отношения включают посессора – лицо и обладаемое – конкретный предмет, часть тела или члена семьи данного лица [Гиро-Вебер, Микаэлян, 2004, с. 65]. Профессор кафедры славянского языкознания Цюрихского университета Даниэль Вайс предлагает разграничивать также «сильную», или «подлинную», посессивность (посессор = владелец предмета) и «слабую» (посессор имеет контроль над предметом) [Вайс, 2004, с. 285].
Достаточно подробно и широко посессивные отношения описаны в работах О.Н. Селиверстовой: сфера посессивности Х-а – это все то, на что распространяется «личность» Х-а, это то, что попадает под временную или постоянную власть Х-а (юридическую, физическую, нравственную, духовную), с другой стороны, то, что несет в себе элемент самого Х-а, причем этот элемент является производным, зависимым от Х-а [Селиверстова, 2004].
Представленная характеристика универсального понятия посессивности, на наш взгляд, должна быть дополнена еще одним важным структурным компонентом – вторым субъектом, который также имел, имеет, будет иметь (либо намеревается) какое-либо отношение к объекту посессии (причем его действия могут носить как законный, так и противоправный характер). Второй субъект может противодействовать субъекту-посессору владеть объектом либо оказывать ему содействие и т. п. Словом, второй субъект посессивных отношений – это тот, кто тем или иным образом (намерения, действия) включает в свою сферу (ментальную, физическую) объект посессии. Формально данные отношения можно представить в следующем виде: S1 — Ob ® S2(n). Однако если мы будем говорить об отношениях посессии не вообще, а применительно к таким сферам, как экономика и право, то будет представлена так называемая третья сторона – в лице того, кто дает оценку данному виду отношений, например, в Древней Руси в качестве такой третьей стороны мог выступать княжеский суд.
В тексте «Русской Правды» Краткой и Пространной редакций представлен в самом общем виде следующий тип посессивных отношений: в качестве субъекта-посессора выступает лицо, которое обладает определенной (как правило, полной) властью над объектом; объект – конкретный предмет, лицо либо объект расширенного характера; отношения между субъектом и объектом характеризу- ются как «сильные», поскольку посессор является владельцем объекта. Таким образом, отраженная в тексте сфера посессивности включает в себя все, на что распространяется личность посессора, что (кто) находится под его постоянной властью или зависит от него. В качестве второго субъекта, согласно данным памятника, могли выступать прежде всего лица, незаконно отчуждающие объект посессии, либо наносящие ему вред, либо препятствующие возврату (в современном юридическом дискурсе – преступники); лица, оказывающие содействие в возвращении объекта субъекту-собственнику; лица, претендующие на объект (ситуация наследования). Третьей стороной выступал, безусловно, княжеский суд, который давал свою оценку ситуации: устанавливал определенный вид наказания.
Из текста памятника следует, что во времена его составления посессивные отношения преполагали полное господство субъекта-собственника. В состав субъекта-посессора включались все свободные люди. В качестве объектов посессии выступало движимое и недвижимое имущество. К недвижимому имуществу относилась прежде всего земля (и постройки – хлев и др.), а также двор, дом: А двор без дела отень всяк меншему сынови (РП ПР, ст. 100) 1; Аже кто умирая разд 4 лить домъ свои д 4 темъ, на том же стояти; паки ли безъ ряду умреть, то вс 4 мъ дет 4 мъ, а на самого часть дати души (РП ПР, ст. 92).
Движимое имущество можно объединить в следующие группы: домашние животные (овца, коза, конь и др.), птица (гусь, утка, лебедь и др.); ловчие птицы (ястреб, сокол); ценные предметы (оружие, одежда); бытовые жизненно важные предметы (сено, дрова). Отдельную группу движимого (и недвижимого) имущества составляли объекты расширенного характера: добыток, дом, двор, задница (наследство).
О значимости собственности для древнего русича свидетельствует целый ряд единиц, номинирующих имущество. Так, самое общее обозначение собственности заключено в единице имение: в словаре И.И. Срезневского им4ние – имущество (которое можно было продать, возвратить, завещать и т. д.), а также богатство, мзда, добыча, зах- ват (Срезневский, т. I, стб. 1094–1095); имущество, добыча, богатство, мзда, земельное владение, захват (СРЯ ХI–ХVII, вып. 6, с. 226– 227). Обратим внимание на то, что важной составляющей понятия имущества является способ его приобретения – захват, добыча (в современном русском языке это значение у единицы имущество не эксплицировано). Однако в «Русской Правде» данная единица не зафиксирована, имущество обозначено другими языковыми единицами – добытокъ, задница (наследуемое имущество), домъ.
Языковая единица домъ в древнерусском языке имела более широкое значение по сравнению с современным русским языком. В.М. Живов трактует домъ как «древнейший русский термин для обозначения имущества (движимого и недвижимого)» [Живов, 2002, с. 196], известный русский ученый-цивилист П.П. Цитович считает, что понятие дом тесно связано с другим функционально обусловленным обозначением имущества – задница : дом и задница выражают только различные стороны одного и того же понятия – имущества умершего, имущества как целого, universitas. Это имущество, эта целостность со стороны своей принадлежности покойному при его жизни называется домом . Но то же самое имущество со стороны возможности достаться другим через посредство наследования представляется как нечто оставленное, покинутое позади себя умершим и поэтому называется задницей , остатком , статком [Цитович, 1870, с. 56–57]. Приведем контексты из «Русской Правды»: Аже кто умирая разделить дом свои детем, на том же сто-яти (РП ПР, ст. 92); Аже в боярех любо в дружине, то за князя задниця не идеть (РП ПР, ст. 91); Аже жена сядеть по мужи... а задниця ей мужняя не надобе (РП ПР, ст. 93); Аже будеть сестра в дому, то той заднице не имати (РП ПР, ст. 95). В ситуации наследования (в обозначенный хронологический период) четко прослеживаются гендерные различия в праве на наследование.
Особого внимания заслуживает единица добытокъ: Аже жена ворчеться седети по мужи, а ростеряеть добыток и поидеть за мужь, то платити ей все детем (РП ПР, ст. 101); Аже будуть в дому д4ти мали, а не джи ся будуть сами собою печаловати, а мати имъ поидеть за мужь, то кто имъ ближии будеть, тому же дати на руц4 и с добыткомь и с домомь, донел4 же возмо-гуть; а товаръ дати перед людми; а что ср4зить товаромь т4мь ли пригостить, то то ему соб4, а истыи товаръ воротить имъ, а прикупъ ему соб4, зане кормилъ и печаловалъся ими... (РП ПР, ст. 99). Данная единица также называла имущество, при этом в ее значении прослеживается связь с начальным моментом имения чего-то, эксплицирован динамический аспект собственности: прежде чем что-то иметь, надо для этого применить усилия – завоевать, получить с помощью собственного труда и т. д. В Словаре И.И. Срезневского добытъкъ – имущество, имение; добыча (Срезневский, т. I, стб. 685). В Словаре русского языка ХI–ХVII вв. первым значением приводится «добыча», а вторым – «имущество, состояние» и затем – «доход, прибыль» (СРЯ ХI–ХVII, вып. 4, с. 272). В современном русском языке слово добыток утратилось, остались родственные добывать, добытчик, добыча.
Итак, между субъектом-посессором и зависимым от него объектом устанавливаются определенные посессивные отношения, ядерными средствами выражения которых в языке выступают глагольные единицы, квалифицирующие определенные посессивные ситуации. При этом следует отметить особую востребованность в «Русской Правде» для передачи отношений собственности ряда глаголов, восходящих к одному корню, отражающему восприятие мира с позиций Habeo : изы-мати , емати , поимети , пояти , прияти , има-ти и др.
В тексте «Русской Правды» представлены различные посессивные ситуации. Преобладают ситуации приобщения объекта (взять штраф, забрать кого-, что-либо, присвоенное незаконным путем, назад и т. д.): Или будеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати ему видока челов4ку тому; аще не будеть на немъ знамениа никотораго-же, то ли приидеть видокъ; аще ли не мо-жеть, ту тому конець; оже ли себе не мо-жеть мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривн4, а л4тцю мъзда (РП КР, ст. 2); Аже кто даеть куны в р4зъ, или наставъ в медъ, или жито во просопъ, то послухи ему ста- вити: како ся будеть рядилъ, тако же ему имати (РП ПР, ст. 50); Аже у господина ролеиныи закупъ, а погубить воискии конь, то не платити ему; но еже далъ ему господинъ плугь и борону, от него же купу емлеть, то то погубивше плати-ти... (РП ПР, ст. 57); Или холопъ ударить свободна мужа, а б4жить въ хоромъ, а господинъ начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить господинъ за нь 12 гривн4 (РП КР, ст. 17).
Примечательно, что достаточно часто в ситуации приобщения употребляется местоимение свои , которое подчеркивает полную власть над одушевленным объектом, закрепляет отношения собственности – контексты типа: А челядинъ скрыеться, а закличють и на торгу, а за 3 дни не выведуть его, а по-знають и третии день, то свои челядинъ поняти , а оному платити 3 гривны продажи (РП ПР, ст. 32); Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо портъ, а позна-еть въ своемь миру, то взяти ему свое , а 3 гривн 4 за обиду (РП КР, ст. 13).
Отдельно следует остановиться на зафиксированном в тексте глаголе переимати , который обозначает ситуацию временного интенсивного приобщения одушевленного объекта, при этом субъект не является собственником, он лишь на определенное время включает объект в свою сферу, чтобы впоследствии вернуть его истинному владельцу; префикс пере- передает момент отчуждения объекта у одного лица и приобщение его другим лицом, а также опосредованно указывает на временный характер посессивных отношений: Аже кто переиметь чюжь холопъ и дасть в 4 сть господину его, то имати ему переемъ гривна; не ублюдеть ли, то пла-тити ему 4 гривны, а пятая переемная ему, а будеть роба, то 5 гривенъ, а шестая на переемъ отходить (РП ПР, ст. 113).
Весьма интересным в аспекте экспликации отношений собственности является выражение, неоднократно отмеченное в тексте, – лицемь взяти (пояти). Лицемъ, по материалам Словаря И.И. Срезневского, – «поличное» (Срезневский, т. II, стб. 31), то есть взять, забрать именно то, что лично принадлежало субъекту, именно этот предмет, это лицо, а не что-то другое; помимо этого, лицемь означа- ет также, что объект должен быть представлен в наличии (то есть «в присутствии»), причем в контексте может быть тройное указание на собственность субъекта – взять, ли-цемь, свое: Аче кто конь погубить, или оружье, или портъ, а запов4сть на торгу, а посл4 познаеть въ своемь город4, свое ему лицемь взяти, а за обиду платити ему 3 гривны (РП ПР, ст. 34); ...яже от челяди плод или от скота, то то все поимати ли-цемь; что ли будеть ростерялъ, то то все ему платити д4темъ т4м; аче же и от-чимъ прииметь д4ти съ задницею, то тако же есть рядъ (РП ПР, ст. 39). В данных контекстах местоимение свои также подчеркивает отношения собственности, власти субъекта. При этом зафиксирована следующая закономерность: в ситуациях с неодушевленным объектом в большинстве случаев приобщение выражают глаголы взяти, имати, в ситуациях с одушевленным объектом – глагол пояти, который передает более интенсивное действие, подчеркивает сильное желание субъекта возвратить объект в свою личную сферу, указывает на определенные усилия.
Следующей посессивной ситуацией является ситуация отчуждения – по сути, та же ситуация приобщения, однако акцент делается именно на отчуждении объекта у другого лица, участвующего в ситуации, причем в качестве объекта выступает собственность субъекта, поэтому он ее отчуждает на законных основаниях; в большинстве случаев это одушевленный объект, на который полностью распространяется власть субъекта-посессора: Или холопъ ударить свободна мужа, а б 4 жить въ хоромъ, а господинъ начнеть не дати его, то холопа пояти , да платить гос-подинъ за нь 12 гривн 4 (РП КР, ст. 17); Аже украдуть овъцу, или козу, или свинью, а ихъ будеть 10 одину овьцу украл 4 , да положать по 60 р 4 занъ продажи; а хто изималъ , тому 10 р 4 занъ (РП КР, ст. 40).
Отдельно следует рассмотреть посессивную ситуацию наследования, которая широко отражена в Пространной редакции «Русской Правды». Для обозначения данной ситуации чаще других использованы глаголы имати, поимати: Аже будеть сестра в дому, то тои задниц4 не имати, но отдадять ю за мужь братия, како си могуть (РП ПР, ст. 95); ...а товаръ дати перед людми; а что ср4зить товаромь т4мь ли пригостить, то то ему соб4, а истыи товаръ воротить имъ, а прикупъ ему соб4, зане кормилъ и печаловалъся ими; яже от челяди плод или от скота, то все поимати лицемь (РП ПР, ст. 99). Обратим внимание на последний пример. Наследство включает добыток – то есть движимое имущество и дом – недвижимое имущество (хотя, как мы уже отмечали, лексема дом могла обозначать в том числе и движимое имущество). Выражение поимати лицем в данном случае указывает на то, что наследство должно быть передано все, полностью, субъект должен все забрать в наличии, видеть это, тем самым обозначая границы своей власти.
Выделим ряд этимологически родственных глагольных единиц, представленный в «Русской Правде» в рамках посессивных ситуаций: яти, имати (формы настоящего времени с корнем емл -), им 4 ти , производные възяти ( възимати ), пояти ( поимати ), при-яти ( приимати ), переимати . В большинстве случаев эти глаголы отражали в древнерусском языке ситуацию приобщения объекта, начальный момент посессии. Приведенные единицы обнаруживают структурно-грамматическую общность (генезис корневой морфемы, характер парадигм, соотношение основ и суффиксов-флексий). Данные глаголы прошли длительный путь структурно-семантической эволюции, которая обусловлена целым рядом сложных исторических процессов. Можно предположить, что в праиндоевропей-ском корень глаголов яти, имати, им 4 ти состоял из одного согласного – это был краткий диезный слоговой сонорный -m- . Впоследствии в результате действия определенных тенденций в праславянском языке этот корень преобразовался в чередующиеся дифтонгические сочетания *-em-/*-im-, которые, в свою очередь, изменились в *-em-/*-ьm-. Данные дифтонгические сочетания и приняли участие в образовании глаголов яти , имати , им 4 ти [Милованова, 2007, с. 133].
В некоторых славянских языках до сих пор сохранились формы, свидетельствующие о наличии в корне дифтонгического сочетания с носовым согласным, например, в польском: wziąć – взять (Фасмер, т. I, c. 311).
В приведенном ряду глаголов особое место занимает глагол им 4 ти . М. Фасмер считал, что имамь , им 4 ти связаны с праславян-ским *jbmy : *j^ti и отношение а : е является древним (Фасмер, т. II, с. 128). Вяч.Вс. Иванов также, говоря об отношении а : е , указывает, что глагол *jьmаmь является «единичным остатком древнего типа основ на ā, где ā – суффикс, обозначающий состояние и связанный с ē» [Иванов, 1981, с. 132]. Весьма интересны взгляды А. Преображенского: ученый, говоря в целом о глаголе им 4 ти , связывал его не с яти , а с имати , однако не со всеми формами глагола имати , а только с формами типа емлю и считал, что им 4 ти – это несовершенный вид к многократному емлю ; значения автор соотносил следующим образом: «что я взялъ (емлю), то у меня есть, то я им 4 ю » (Преображенский, с. 270).
В современном русском языке в результате длительного и сложного процесса исторического развития данный глагольный ряд представлен несколько иначе. Так, парадигма глагола яти полностью утратилась, от него сохранились лишь префиксальные образования совершенного вида: взять , возьму ; принять , приму и т. д. В качестве видовой пары у глагола взять в современном русском языке закрепился не глагол имати , а глагол несовершенного вида брать , имеющий с ним общее лексическое значение. От глагола има-ти сохранились лишь префиксальные образования несовершенного вида в качестве видовой пары соответствующим образованиям от яти : принимать – принять, отнимать – отнять и т. д.
В современном русском языке сохранились также образования с корнем - емл’- (производимые от имати ), которые часто приобретают книжную стилистическую окраску, употребляясь в книжных (художественных) текстах: Восстань, пророк, и виждь, и внемли... (А.С. Пушкин).
Что касается глагола пояти , то его парадигма утратилась, сохранилась форма поймать (от глагола поимати ), в узком значении в качестве видовой пары к ней закрепился глагол ловить .
Из бесприставочных образований в современном русском языке полностью сохранилась парадигма тематического варианта спряжения глагола им 4 ти.
Почему же в современном русском языке, в отличие от «Русской Правды», данный глагольный ряд не представлен в рамках посессивных отношений? Безусловно, на материале одного памятника письменности сложно делать обобщающие выводы. Однако ценнейший языковой материал, представленный в тексте «Русской Правды», позволяет поразмышлять над тем, что в рамках выражения собственности было действительно важным для носителя языка того времени и почему релевантной была именно Habeo-картина мира .
Обратимся к универсальной категории посессивности, ядро которой составляют отношения собственности. Как известно, язык является результатом процессов, которые происходили много лет назад, и диахронический подход – это мощный инструмент в объяснении языковой структуры. На вопрос, почему существует некоторая грамматическая категория и почему она имеет именно ту структуру, которую имеет, нельзя ответить полностью, если исследовать категорию только с синхронической точки зрения и не принимать в расчет факторы, благодаря которым появилась данная категория. Тем не менее даже такое «комплексное» объяснение категории может быть недостаточным, если не объяснять, в какой степени она является результатом исторического развития. На основании этих положений необходимо особо остановиться на связи понятия посесивности с локатив-ностью и экзистенциальностью.
На связь данных понятий обращали внимание многие отечественные и зарубежные ученые (см.: [Апресян, 1995; Гиро-Вебер, Микаэлян, 2004]). В качестве аргументов в пользу их взаимосвязи ученые приводят тот факт, что во многих языках наблюдается структурное сходство между локативными, посессивными и экзистенциальными конструкциями (см.: [Lyons, 1967; Clark, 1978]). Эта связь проявляется по-разному в конкретном языке. В частности, экзистенциальные конструкции часто соответствуют одному типу посессивов, локативы – другому (порядок слов, определенность / неопределенность объекта посессивности и выбор глагола и др.).
Второй аргумент в пользу взаимосвязи данных понятий основывается на замечании Э. Бенвениста о том, что иметь ( have ) является обратным быть ( be ). Если иметь является обратным быть , то тогда пассив глагола иметь будет соответствовать быть , то есть приобретет экзистенциальное значение [Benveniste, 1966]. Как отмечают И. Бэрон и М. Херзлунд, пассивные конструкции с иметь встречаются редко, возможно, потому, что иметь , как и быть , является глаголом состояния, а данные глаголы нелегко перевести в пассивный залог. Тем не менее в датском у глагола have ( иметь ) есть форма пассивного залога haves , которая имеет ограниченную сферу употребления в значении «быть», «существовать», то есть используется в основном в экзистенциальных конструкциях[Baron, Herslund, 2001, p. 12].
В качестве еще одного аргумента тесной связи локативности и посессивности можно привести наличие в конструкциях с глаголом иметь указания на точное местоположение объекта: Он имеет дом в Испании ( У него есть дом в Испании ); объект (дом) находится в определенных посессивных отношениях к субъекту-посессору и в определенных локативных отношениях относительно конкретного месторасположения.
Связь между посессивностью, экзистен-циальностью и локативностью во многом объясняет проблему так называемых источников посессивных конструкций в языках. Б. Хайне установил, что конструкции с глаголом иметь почти без исключений производны от следующих конструкций-схем: действие (Х берет Y); локативность (Y располагается в (на) Х); цель (Y существует для Х); генетивность ( принадлежность ) (существует Y, принадлежащий Х); сопровождение (Х (вместе) с Y); топикализация (Y существует относительно Х); источник (Y существует от (из) Х) [Heine, 1997].
Таким образом, категория посессивнос-ти тесно связана прежде всего с категорией локативности, а также с категорией экзистен- циальности. Любое обладание субъекта объектом – в различных его фазах: начало, собственно обладание, завершение – осуществляется в определенном пространственновременном континууме. Именно тесная связь посессивности с экзистенциальностью и ло-кативностью во многом определила наличие различных языковых средств для выражения посессивных отношений в языках: иметь-кон-струкций и быть-конструкций.
Предикативные конструкции с глаголами иметь и быть относят к универсальным способам выражения посессивности (см.: [Benveniste, 1966 и др.]). Русский глагол быть и бытийный тип предложений, включающий посессивную модель, достаточно полно описан в лингвистической литературе – структура, семантика этих предложений, прагматика, коммуникативные признаки и т. д. [Арутюнова, Ширяев, 1983; Селиверстова, 2004; Babby, 1980; Paillard, 1984 и др.].
Глагол быть, являющийся основной посессивной конструкцией в русском языке, исследован с различных сторон, что обусловлено многообразием значений, которые он может выражать, – от собственно лексических до грамматических. Если обратиться к материалам толковых словарей, то в семантике глагола быть можно выделить в качестве основных (но далеко не всех) следующие виды значений: локативные, экзистенциальные, посессивные и связочные. Однако следует учитывать тот факт, что собственно посессивное значение глагол быть приобретает только в сочетании с «у + генетив». Ряд исследователей считают, что посессивная конструкция с глаголом быть в русском языке восходит к модели локативной, в ходе грамматикализации синтагма «у + генетив» превратилась в «посессивный падеж», который обозначает посессора не только в собственно посессивной предикативной конструкции, но и в приглагольной позиции – там, где обладание или не обладание объектом не входит в ассерцию (см. об этом: [Гиро-Вебер, Микаэлян, 2004]). Другие ученые высказывают мнение, что посессивное предложение с глаголом быть появляется в результате семантического разви- тия бытийной конструкции с локальным компонентом [Мишланов, 2002]. Р.М. Бирюкович считает, что в основе конструкций «У Х есть Y» (ситуация существования) и «Х имеет Y» (ситуация обладания) лежат разные ономасиологические структуры, поскольку в ролевой структуре бытийных предложений один актант – субъект. Компонент бытийных предложений, представляющий собой область бытия, не становится участником ситуации (актантом), а являет собой лишь семантический дополнитель признакового понятия. В ролевой структуре предложений, обозначающих ситуацию обладания, – два актанта: субъект обладания и объект обладания [Бирюкович, 1990, с. 4].
Глагол иметь в русском языке традиционно исследовался прежде всего с позиций грамматики, как, например, вспомогательный глагол [Кацнельсон, 1949; Мещанинов, 1948, с. 175]. Однако, как отмечают М. Гиро-Вебер и И. Микаэлян, его роль в языке «не столь маргинальна, как принято считать» [Гиро-Вебер, Микаэлян, 2004, с. 54]. Существуют различные точки зрения на возникновение глагола иметь в русском языке. Например, известный славист А.В. Исаченко считал, что в общеславянском не было глагола иметь , он появился лишь в старославянском при переводе с греческого в составе калек [Isačenko, 1974]. Дж. Дингли обосновывает точку зрения, что глагол иметь унаследован восточнославянским языком из позднего общеславянского [Dingley, 1995].
Глагол иметь был широко распространен в древнерусском языке и входил в один ряд с родственными глаголами, обозначающими вступление в посессию, – яти, имати. В истории русского языка четко прослеживается последовательность становления посессивных отношений – сначала яти или имати и затем – им4ти. В современном русском языке развитие получили конструкции с глаголом иметь, в которых объект является абстрактным, что объясняется прежде всего типом дискурса, в котором такие конструкции употребительны. Это прежде всего язык, ориентированный на книжную, письменную речь. Мы разделяем точку зрения М. Гиро-Вебер и И. Микаэлян [Гиро-Вебер, Микаэлян, 2004] и считаем глагол иметь собственно посессив- ной глагольной лексемой, поскольку, в отличие от конструкций с глаголом быть, субъект-посессор при данном глаголе является также и грамматическим субъектом и выступает как активное начало в высказывании (ср.: Я имею недвижимость и У меня есть недвижимость). Конструкции с глаголом иметь востребованы в современном русском языке прежде всего в юридическом дискурсе именно в силу большей определенности.
Фактический материал «Русской Правды», как мы уже отмечали, отражает Habeo-картину мира, о чем свидетельствует система языковых средств – глагольных единиц, выражающих отношения собственности.
Почему же в русском языке произошло развитие именно быть- конструкций? Здесь следует обратиться к специфике формирования и развития концептосферы посессивнос-ти, о чем мы уже частично говорили. Посес-сивность следует рассматривать как отношение с перманентными свойствами, развитие посессивных отношений в языке не представляет собой линейный процесс, направленный в одну сторону. Можно говорить о том, что это про-активное (настоящее и направленное в будущее) и ре-активное (обращенное к прошлому) освоение личностью объектов внешнего мира. В самом общем виде посессив-ность является отношением между личностью и объектами внешнего мира. В этих отношениях есть некая начальная точка и последующая динамика – дальнейшее освоение личностью мира, развивающаяся от неотчуждаемой посессивности к отчуждаемой. Человек, освоив личную сферу, идет дальше, приобщая объекты уже за пределами его личной сферы. Самыми простыми и тем не менее наиболее естественными являются отношения, неотъемлемые от понятий, относящихся к самому себе (self): названия частей тела, родственные отношения, сфера личных отношений («sphere personnelle») (см.: [Balli, 1926]), то есть случаи, когда посессор неотделим от объекта посессивности. Посессор выражен наиболее четко именно в виде личности или подобного ей объекта. Про-активное освоение личностью объектов внешнего мира показывает, каким образом объекты вне «sphere personnelle» усваиваются личностью (self). Здесь мы переходим к таким понятиям, как
«приобретение», «владение», «принадлежность», которые и составляют сущность по-сессивности.
Вместе с тем максимально контролируемый или отчужденный объект посессивнос-ти всегда имеет обратную связь с посессором, то есть с личностью. Таким образом, реактивность возвращает личность назад, к начальной точке.
Например, в немецком языке в конструкции Ich habe (я имею) и в английском языке в конструкции I have отразилось посессивное освоение личностью объектов внешнего мира, которое можно охарактеризовать как про-активное движение. В свою очередь, об инверсивном, ре-активном движении свидетельствуют следующие этимологические связи: готское hafjan – «завладеть, схватить» и его латинское соответствие (родственное слово) capio – «завладеть, схватить». Другими способами достижения того же эффекта являются претерито-презентные формы глагола в готском aigan / aih – «владеть, быть хозяином чего-либо» или формы среднего залога (медиального) в санскритском īse – «быть хозяином, контролировать», где посессивность выражается не дополнением, а подлежащим (см.: [Seiler, 2001]).
Обратимся к этимологии глагола иметь в русском языке. В историко-эимологическом словаре П.Я. Черных: иметь – «обладать, владеть, располагать чем-либо», украинское мати, болгарское имамь, сербское имати и др., корень jъm- (< ьm-) – «возьму», «схвачу»; значение «владеть», «обладать» развилось из значения «брать», «захватывать» (Черных, т. I, с. 344). М. Фасмер связывает по происхождению все названные глаголы. Так, имéю, др.-русск., ст.-слав. им4ти, имамь. От *jbmQ : j^ti; см. взя'ть. Кроме того, см. имамь (Фасмер, т. II, с. 129). Глагол имамь, в свою очередь, также связан с праслав. *jbmq : *j^ti (Фасмер, т. II, с. 128); емлю – имáть «брать», несверш. из. *jbmq, *jqti (см. возьму, взять), словен. jémljem, jemáti, чеш. jímati «хватать», слвц. jímat’, полаб. je˜ me «берет, хватает, ловит». Ср. лат. emō, ēmi «беру» (Фасмер, т. II, с. 19). Взять, возьму - из приставки vъz и jqti (Фасмер, т. I, с. 311). Таким образом, этимология русского иметь перекликается с этимологией глаголов have, haben в английском, немецком языках. Однако, как свидетельствуют приведенные данные, в Habeo-языках в большей степени подчеркивается статус субъекта-собственника – завладеть, быть хозяином, в отличие от русского языка, но русский глагол иметь также связан с «начальной точкой» владения, имения чего-то в своей сфере – брать, хватать, то есть в данном случае в семантике глагола нашел отражение как момент про-активности, так и ре-активности в рамках посессивных отношений. Однако русский язык пошел по пути Esse-языков, быть-конструкции стали вытеснять иметь-конструкции при выражении посессии.
В этимологии глагола быть не прослеживается связи с начальным моментом приобщения объекта. Так, быть в словаре П.Я. Черных: «существовать», «находится», «проявляться», укр. бути , бувати , белорус. быць , бываць , словен. biti и др. родственно др.-инд. bhu- «быть», «возникать», «являться», «жить», bhūtám – «существо», «мир»; автор приводит мнение Юлиуса Покорного, который связывал данный глагол с индоевропейским корнем, имеющим значение «быть», «возникать», «расти» (Черных, т. I, с. 129). В словаре М. Фасмера быть – родственно лит. bū ´ ti «быть», др.-инд. bhū ´ tís. , bhūtís. «бытие, хорошее состояние, преуспевание», ирл. buith «бытие», далее, др.-инд. bhávati «есть, имеется, происходит», греч. ф и оца1 «становлюсь», лат. fui «я был», futurus «будущий», гот. bauan «жить» (Фасмер, т. I, с. 260) – то есть данная единица выражает прежде всего экзистенцию, состояние (обратим внимание – хорошее ) и становление этого состояния, но не посессию и ее начало.
Итак, мы можем говорить о том, что в семантике предикативных конструкций, выражающих посессивные отношения, в русском языке (Esse-язык) находит отражение про-активный процесс освоения объектов внешнего мира, не включающий в себя момент ре-активности, поэтому связанный с настоящим и обращенный к прошлому, в отличие от Habeo-языков, в которых это про-активный процесс освоения объектов внешнего мира, включающий в себя момент ре-активности, поэтому направленный в будущее.
Однако фактический материал «Русской Правды» свидетельствует об обратном – частотность глагольных единиц, этимологически восходящих к значению «брать, хватать», позволяет говорить о релевантности данного аспекта для древних русичей. Причем начальный момент собственности был более значим, чем само владение, ведь «имение» и «захватывание» закрепляются за разными этимологически родственными глаголами – яти , има-ти (взять, схватить, брать) и им 4 ти (иметь). В «Русской Правде» нашло яркое отражение восприятие мира с позиций Habeo – активное, динамичное, деятельностное владение одушевленным, неодушевленным объектом в рамках отношений собственности.
Мы можем предположить, что в рамках категории посессивности вытеснение быть -конструкциями иметь- конструкций во многом было обусловлено этнокультурной спецификой, отличающимся от других этносов восприятием отношений собственности. Русская культура, как известно, коллективистская культура; одной из констант русского национального самосознания является соборность. Посессив-ность и экзистенциальность, как мы уже отмечали, тесно связаны друг с другом, в каждой лингвокультуре эта взаимосвязь проявляется по-разному, в русской лингвокультуре посессия выражается через экзистенцию. Носитель русского языка воспринимает собственность через объект – у меня есть нечто , то есть это нечто существует в моей сфере, при этом без расширения непонятно, а принадлежит ли это нечто мне. В хронологический период, отраженный в тексте «Русской Правды», для носителя языка было актуально иное восприятие собственности, как и в целом посессивных отношений. Ведущим принципом познания окружающего мира и осмысления своего места в нем был деятельностный подход.
Энциклопедичность «Русской Правды» несомненна. Этот памятник письменности дает возможность носителю современного русского языка увидеть систему ценностей далеких предков, проследить особое отношение к личной собственности, отметить активное деятельностное начало в познании окружающего мира, посмотреть на то, кем мы были и что с нами стало. В этом – неустаре- вающая ценность «Русской Правды» для всех последующих поколений.
Список литературы Habeo-картина мира в "Русской правде"
- Апресян, Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография/Ю. Д. Апресян. -М.: Языки русской культуры, 1995. -767 с.
- Арутюнова, Н. Д. Русское предложение. Бытийный тип/Н. Д. Арутюнова, Е. Н. Ширяев. -М.: Русский язык, 1983. -198 с.
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -М.: Языки русской культуры, 1999. -896 с.
- Бирюкович, Р. М. Именование ситуаций существования и обладания в языках различных структурных типов/Р. М. Бирюкович//Номинативные свойства языковых единиц: межвуз. сб. науч. тр. -Саратов: Саратов. гос. ун-т, 1990. -С. 3-12.
- Вайс, Д. Смысловой потенциал посессивного отношения и его текстуальная обусловленность в современном русском языке/Д. Вайс//Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура: сб. ст. в честь Н. Д. Арутюновой/отв. ред. Ю. Д. Апресян. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -С. 283-295.
- Гиро-Вебер, М. В защиту глагола ИМЕТЬ/М. Гиро-Вебер, И. Микаэлян//Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура: сб. ст. в честь Н. Д. Арутюновой/отв. ред. Ю. Д. Апресян. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -С. 54-68.
- Живов, В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема/В. М. Живов//Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. -М.: Языки славянской культуры, 2002. -С. 187-290.
- Иванов, Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки/Вяч. Вс. Иванов. -М.: Наука, 1981. -271 с.
- Кацнельсон, С. Д. Историко-грамматические исследования. Т. 1: Из истории атрибутивных отношений/С. Д. Кацнельсон. -М.; Л.: АН СССР, 1949. -385 с.
- Мещанинов, И. И. Глагол/И. И. Мещанинов. -М.; Л.: Наука, 1948. -185 с.
- Милованова, М. В. Категория посессивности в русском и немецком языках в лингвокультурологическом освещении/М. В. Милованова. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2007. -408 с.
- Мишланов, В. А. Глагол БЫТЬ в русском синтаксисе/В. А. Мишланов//Изменяющийся языковой мир: докл. Междунар. науч. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 12-17 нояб. 2001 г.). -Пермь: , 2002. -С. 45-47.
- Селиверстова, О. Н. Труды по семантике/О. Н. Селиверстова. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -960 с.
- Цитович, П. П. Исходные моменты в истории русского права наследования/П. П. Цитович. -Харьков: Университетская типография, 1870. -173 с.
- Babby, L. H. Existential sentences and negation in Russian/L. H. Babby. -Ann Arbor: Karoma Publishers, 1980. -180 p.
- Bally, C. L’expression des idйes de la sphйre personelle et de solidaritй dans les langues indo-europйennes/C. Bally//Festschrift Louis Gauchat/F. Frankhauser, J. Jud (eds.). -Arau: Sauerlдnder, 1926. -P. 68-78.
- Baron, I. Semantics of the verb HAVE/I. Baron//Dimensions of possession. Typological Studies in Language/I. Baron, M. Herslund, F. SШrensen (eds.). -Copenhagen: John Benjamins, 2001. -Vol. 47. -P. 2-25.
- Benveniste, E. ‘Etre’ et ‘avoir’ dans leurs fonctions linguistiques/E. Benveniste//Problиmes de linguistique gйnйrale. -Paris: Йditions Gallimard, 1966. -Т. 1. -P. 187-207.
- Clark, E. V. Locationals: Existential, locative and possessive constructions/E. V. Clark//Universals of Human Language. Vol. 4: Syntax/ed. by J. Greenberg. -Stanford: Stanford University Press, 1978. -P. 85-126.
- Dingley, J. Imмti in the Laurention Redaction of the Primary Chronicle/J. Dingley//The Language and Verse of Russia: In Honor of Dean S. Worth. On his sixty-fifth birthday. -M.: Vostochnaia Literatura Publishers, 1995. -P. 80-87.
- Heine, B. Possession. Cognitive sources, forces and grammaticalization/B. Heine. -Cambridge: Cambridge University Press, 1997. -274 p.
- Isaиenko, A. V. On ‘HAVE’ and ‘BE’ Languages/A. V. Isaиenko//Slavic Forum. Essays in Linguistics and Literature/ed. by M. S. Flier. -The Hague; Paris: Mouton, 1974. -P. 43-77.
- Lyons, J. A note on possessive, extensional and locative sentences/J. Lyons//Foundations of Language. -1967. -Vol. 3. -P. 390-396.
- Paillard, D. Enonciation et determination en russe contemporain/D. Paillard. -Paris: Institut d’studes slaves, 1984. -460 p.
- Seiler, H. The operationel bases of possession. A dimensional approach revisited/H. Seiler//Dimensions of possession. Typological Studies in Language/I. Baron, M. Herslund, F. SШrensen (eds.). -Copenhagen: John Benjamins, 2001. -Vol. 47. -P. 27-40.
- РП КР -Русская Правда (Краткая редакция)//Собрание текстов. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: lib.pushkinskijdom.ru. -Загл. с экрана.
- РП ПР -Русская Правда (Пространная редакция)//Собрание текстов. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: lib.pushkinskijdom.ru. -Загл. с экрана.
- Преображенский -Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка/А. Преображенский. -М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910-1914. -534 с.
- СРЯ ХI-ХVII -Словарь русского языка XI-XVII вв. -М.: Наука, 1975-2015. -Вып. 1-30.
- Срезневский -Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка: в 3 т./И. И. Срезневский. -М.: Книга, 1989.
- Фасмер -Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т./М. Фасмер; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. -М.: Астрель, 2004.
- Черных -Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь: в 2 т./П. Я. Черных. -М.: Русский язык, 1999.