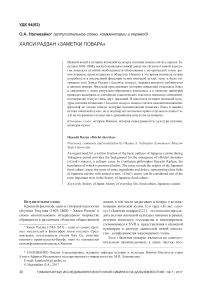Хаяси Радзан "Заметки повара"
Автор: Наливайко Оксана Александровна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Важной вехой в истории японской культуры питания можно считать период Токугава (1603-1868), когда становление новой династии сёгунов и новой идеологии повлекло за собой необходимость обоснования с исторической точки зрения перемен, происходивших в обществе. Именно в это время возникла острая потребность в письменной фиксации основ японской кухни, чему и было посвящено эссе Xаяси Радзан «Заметки повара», перевод которого публикуется в данном номере. Философ прослеживает историю появления отдельных блюд и связанного с ними ритуально-обрядового комплекса, а в качестве примеров приводит выдержки из китайских классических текстов и японских сочинений, подтверждая тесную связь двух традиций. В контексте истории японской культуры питания сочинение «Заметки повара» можно считать основополагающим: философ не только описал историю возникновения японских блюд и выявил истоки японской кухни, но и подтвердил негласное право отдельного клана Сидзё на сохранение господства в древнейшем искусстве кулинарии.
История японии, история повседневности, культура питания, японская кухня
Короткий адрес: https://sciup.org/170175691
IDR: 170175691 | УДК: 94(52)
Текст научной статьи Хаяси Радзан "Заметки повара"
Вступительное слово
Крупный философ, один из творцов идеологии сёгуната Токугава (1603-1868) – Хаяси Радзан1 в своем многоплановом литературном творчестве обращается к различным областям общественной жизни, в том числе затрагивает и вопрос о возникновении японской кухни. Его труд «Хо:тё: сёро-ку» («Заметки повара») [21] – это попытка проследить истоки японской культуры питания в рамках истории японского государства и интегрировать сложившиеся к XVII в. представления о японской кулинарии в систему ценностей новой идеологии – конфуцианства чжусианского толка.
Эссе «Заметки повара» является не самостоятельным произведением, а лишь частью вто- рого тома труда «Записи кулинарного мастерства Дома Сидзё» («Сидзё:кэ хо:тё: сёроку»). Представители рода Сидзё с древних времен обучались тонкостям проведения некого «ритуала кухонного ножа» – сикиботё [17, с. 41]. Он заключался в демонстрации кулинарной техники шеф-поваром, который, подобно мастеру чайной церемонии, исполнял определенные движения-позы. Перед собравшимися гостями шеф разделывал и тонко нарезал большую рыбу или дичь, превращая ее в цветочную композицию из рыбы или мяса. Получалась своего рода кулинарная икэбана [12, c. 334]. Считалось, что шеф-повар освобождает дух убитого животного, что позволяло и повару, и его покровителю избежать дурной кармы [12, c. 334].
Наряду с образованием разных живописных, архитектурных, музыкальных школ- рю, в сёгунате Муромати (1392-1467) стали оформляться и первые кулинарные школы, среди которых лидером считалась школа рода Сидзё – Сидзё-рю . Первоначально многотомный труд « Записи кулинарного мастерства Дома Сидзё» не предназначался для широкой публики, скорее, он составлялся для «внутреннего» пользования в рамках школы и для последующих поколений. Однако в годы Гэнроку (1688-1704), когда стали печататься и издаваться кулинарные книги и различные записи о кулинарном мастерстве древнейших родов, таких как род Сидзё, искусство «ритуала с кухонным ножом» стало доступным широкой публике [17, с. 42]. Итак, главной заслугой представителей рода Сидзё в контексте истории японской культуры питания можно считать то, что благодаря им впервые были сформулированы и записаны основы японской кухни и рассказана её история. Именно по заказу рода Сидзё Хаяси Радзан составляет небольшое историческое эссе «Заметки повара», где он формулирует основы японской кухни и демонстрирует преемственность «высокой кухни» как тайного знания и, как следствие, доказывает приоритет рода Сидзё в сфере кулинарного дела.
В японской историографии жанр «Заметок повара» определен как эссе-дзуйхицу (дословно «вслед за кистью» – прим. авт.): произведение в целом лишено единой фабульной связи, состоит из отдельных описаний, каждое из которых включает в себя один эпизод, в повествовании присутствует личность автора и ярко выражена авторская позиция и т.д. Однако нельзя не заметить, что при наличии некоторых несомненных признаков жанра дзуйхицу «Заметки повара» не обладают главным: мозаичностью, то есть когда произведение состоит из отдельных тематических и компози- ционно-стилистических неоднородных элементов [2, c. 349]. Напротив, структура «Заметок повара» весьма прозрачна: введение, основная часть, заключение. Во введении автор пересказывает китайский и японский мифы о возникновении пищи, прослеживает историю формирования императорской кухни в Китае и Японии, приводит иерархию придворных поваров в Китае и Японии, выявляя сходства и различия двух систем, несколько раз упоминает о старинном роде Такахаси, представители которого, по словам автора, и познакомили его с материалами об истоках японской культуры питания. Если введение посвящено важности «личности повара», то в заключении Хаяси Рад-зан в нескольких предложениях рассказывает об истории и этимологии ритуального ножа – главного инструмента повара. Основная часть состоит из 33 отдельных глав, каждая имеет название, которое и определяет тему данной главы. Это либо блюдо («Рисовые лепешки-кусамоти», «Тимаки», «Каша-каю»), либо отдельные продукты («Молодая зелень», «Речной карась-фуна», «Дикий гусь-ган»), либо названия праздников или обрядов («Танабата», «Урабон», «обряд Кадзё»). Лишь одна глава названа именем этнической группы ‒ «Ёсино-кудзу», однако в ней речь идет об обряде, который совершали представители этого народа в Новый год.
Первые четырнадцать глав посвящены календарным праздникам и обычаям. В следующих 12 главах повествуется о разных видах рыб и других морепродуктах, а последние 6 глав посвящены дичи.
Таким образом, структуру «Заметок повара» нельзя назвать хаотичной и бессистемной, во взаиморасположении элементов присутствует определенная логика. Кроме того, огромное количество разнохарактерного материала (этнографические очерки, исторические справки, научные факты и т.д.), помещенного в «Заметки повара», придают им жанровое сходство с бицзи – китайскими сборниками смешанного содержания, появившимися в Китае в V-VI вв. [2, c. 336].
В японской, отечественной и западной историографии встречаются самые разные варианты интерпретации иероглифов «хо:тё:» (庖丁) и, как следствие, перевода названия «Хо:тё: сёроку» («Заметки повара»). В японском толковом словаре «Кодзиэн» приводятся три значения слова «хо:тё:»: повар, кулинария, особый нож с тонким лезвием [19, c. 2188]. Многозначность термина породила следующие варианты названия: «Записки ножа» [17, с. 41], «Записки кухонного ножа» [12, c. 341], «Кулинарные записки» [16]. В совре- менном японском языке под термином «хо:тё:» подразумевается специальный нож, а повара называют «хо:тё:нин», то есть «человек с ножом». Обратимся к первоисточнику. В самом последнем абзаце своего эссе Хаяси Радзан прослеживает этимологию термина «хо:тё:»: «Первый иероглиф [庖] в слове «хōтэй» 2 означает «кухня». Второй иероглиф [丁] взят из имени3. Повар ведает делами кухни, часто разделывает мясо, рыбу и птицу, поэтому и нож, которым он пользуется, называется «хōтэй» [21, c. 350]. Произведение Хаяси Радзана можно назвать признанием мастерства, которым с давних времен обладали повара-хо:тё:, происходившие из древнейших родов, таких как род Такахаси. Автор признается, что «часто спрашивал у представителя рода Такахаси, который ответственен за государеву кухню и организовывает пиры, про культуру питания в Китае и Японии». «Он не отказал мне [автору «Заметок повара»] и любезно предоставил некоторые свои записи», – отмечает Ха-яси Радзан [21, c. 338]. Таким образом, Хаяси Радзан утверждает, что для него первостепенна именно личность повара-хо:тё: как носителя тайного знания, а нож-хо:тё: – это лишь инструмент, пусть и сакральный. Специалист по воинским ритуалам эпохи Муромати Исэ Сада-такэ заверял, что словом «хо:тё:» называют не только нож, но и поваров, так как первый иероглиф обозначает «кухню», а второй взят из слова «посланник» [仕丁 – ситё:] [17, c. 43]. По другой версии, упомянутой как Хаяси Радзаном, так и Исэ Садатакэ, термин «хо:тё:» мог быть просто именем собственным, принадлежащим одному из первых поваров.
В то время как перевод первого иероглифа «хо:»4 (кухня) не вызывает споров у исследователей, второй иероглиф «тё:» или «тэй» является многозначным. Одно из значений китайского иероглифа « 丁 » – «зрелый мужчина», то есть мужчина в работоспособном возрасте (от 20 до 59 лет). В таком случае, термин «хо:тё:» можно перевести как «работник кухни», иными словами – «повар». Руководствуясь точкой зрения самого автора и этимологией термина, я предлагаю перевод названия «Хо:тё: сёроку» как «Заметки повара», имея в виду именно повара-хо:тё:.
Как правило, в основе любого японского традиционного искусства лежат морально-нравственные и философские принципы, обусловленные учением Конфуция. Кулинарное искусство не стало исключением, и эссе «Заметки повара» – яркий тому пример. Данное эссе можно назвать основополагающим в японской культуре питания, ведь в нем прослеживается история возникновения японской кухни, а также на примере некоторых аспектов японской культуры питания растолковывается конфуцианский канон.
Хаяси Радзан «Заметки повара»
Давным-давно, когда небо и земля только разделились, появились люди. В те времена они убивали птиц и животных, ели их мясо, пили их кровь, делали из их шерсти одежду, носили их шкуры, в те времена люди еще не высказывали никакой признательности животным за то, что те даруют им возможность носить одежду, кормят их и утоляют их жажду. А затем настали времена, когда появились мудрецы. Они строили храмы, сами шили себе одежду, а еду и напитки преподносили божествам. Именно во времена правления императора Фу Си5 , когда уже охотились на зверей, ловили рыбу, собирали раковины и использовали их в качестве жертвоприношений божествам, люди впервые узнали о специальном помещении, о кухне, которую стали называть хōтю: , прославляя императора Фу Си6 . И при следующем правителе Шэнь-нун 7 обычай – совершать подношения богам – укоренился. Так, в эпоху трех властителей и пяти императоров в Китае божества Ду Кан8 и И Ди9 впервые поведали людям о вине, а министр
И-инь10, владевший знанием о приготовлении пищи, изучил вкусы Поднебесной. Во времена правителей династии Чжоу11 : Вэнь-ван , У-ван , Чэн-ван , а также, когда страной управлял младший брат У-вана Чжоу-гун , исполнявший роль регента при малолетнем императоре, в стране был мир. Именно в эту эпоху были определены и введены застольные обряды и должности в Дворцовом столовом управлении: придворный повар- дзэмбу , по-вар- хōнин , повар- найё: , знахарь- сёкуи и др.
Повара-д зэмбу руководили приготовлением и сервировкой пищи для императорской семьи: императора, императрицы и наследного принца. Всего насчитывалось около 120 ингредиентов, из которых готовили блюда для императора, их раскладывали по 20 специальным ритуальным сосудам-треножникам. Такие повара были подотчетны государственному ведомству и имели самый низший ранг государственных служащих.
На поваров- хōнин возлагалась ответственность за блюда из мяса и дичи. Они знали всё о ритуальной составляющей этих блюд и подавали императору блюда, где был выдержан баланс добра и зла. Кроме того, эти повара руководили приготовлением праздничной трапезы и были ответственны за проведение пиров для особо почетных гостей. Они также относились к самым низшим чинам государственных служащих.
Повара- найё: занимались приготовлением блюд исключительно для семейных, неофициальных приёмов пищи императорской семьи. Каждый раз перед тем, как преподнести блюдо императрице или наследному принцу, они сами пробовали на вкус все продукты, а потом дегустировали и готовые блюда.
Повара- гайё: , напротив, не имели никакого отношения к приготовлению пищи для императора, они были ответственны за тот набор блюд, который преподносился исключительно по случаю праздников божествам в качестве жертвоприношения, а также простым людям в качестве угощения. Они также составляли низший чин государственных служащих.
Знахари- сёкуи участвовали в приготовлении пищи для императорской семьи, они были обязаны знать лекарственные свойства всех продуктов. Они хорошо разбирались в воздействии еды на организм человека, поэтому не допускали приготовления несовместимых продуктов. Но если по ошибке были поданы несовместимые продукты, то в этом случае по всей строгости закона наказывали поваров- дзэмбу.
В Японии также были введены различные должности для поваров подобно системе, существовавшей в Китае: повара- тайдзэн , сюдзэн , найдзэн и другие. Ведомство, куда входили пова-ра- тайдзэн , подчинялось непосредственно министерству Двора; оно было ответственно за проведение различных застолий. В Китае эти функции выполняло ведомство Дайкан . Повара- найдзэн , будучи чиновниками, руководили исключительно процессом приготовления и сервировки пищи для императорской семьи. Их обязанности в Китае выполняли чиновники, входившие в ведомство Сё:дзё . Поварами более низкого ранга считались будзэн и тэндзэн . В Китае же они считались главами отдельных ведомств при Дворцовом столовом управлении. Всем, что касалось приготовления и подачи пищи для государева дома, из поколения в поколение ведал род Такахаси .
Столовое управление Двора наследника трона, ответственное за питание во дворце государя, подчинялось непосредственно Управлению делами наследника трона. Поскольку в этом ведомстве были осведомлены не только о питании в императорском дворце, а в принципе, о правилах кулинарии, то и в наши дни нет никакой необходимости этому ведомству передавать свои полномочия кому-нибудь другому. В Китае также существовало Столовое управление Двора наследника трона, которое выполняло аналогичные функции. Кроме этого, все те, кто руководил процессом изготовления сакэ , консервированием, маринадом и приготовлением сладостей- каси и рисовых лепешек- моти , все также входили в ведомство, ответственное за приготовление блюд в императорском дворце.
Во время правления государя Момму12 Фузива-ра-но-Фухито13 по государеву указу приступил к составлению Закона о рангах и должностях, подробно изучив и взяв за основу китайский трактат Чжоу ли14. Таким образом, если мы обратимся к древним легендарным временам, когда только появилась Япония, то мы узнаем, что в те времена на небе пребывала Аматэрасу-ōмиками, а на земле обитала богиня Укэмоти. Аматэрасу-ōмиками отправила своего брата, божество Цукиёми-но-мико-то, на землю к богине Укэмоти, и он оказался в её власти. Укэмоти смотрела по сторонам: когда она обращала лицо к стране, изо рта у неё выходил вареный рис, когда поворачивала голову к морю, изо рта у неё выходили «существа с плавниками широкими, с плавниками узкими» [рыбы], а когда поворачивалась к горам, изо рта у нее выходили «существа с грубой шерстью, с мягкой шерстью» [звери]. Уложив всё это на множество подносов, богиня Укэмоти отнесла всё в святилище. Именно так во всем мире были сотворены пища и напитки.
Если же говорить о временах, когда землю уже населяли люди, пища и напитки также стали неотъемлемой частью этого мира. Во времена императоров, когда появилась необходимость в постоянных церемониях и подношениях, были созданы специальные ведомства. Принимая всё вышесказанное на веру, можно сказать, что вкус проявился тогда, когда люди научились пользоваться огнем, то есть люди стали совершенствоваться. Таким образом, день за днем люди пробовали новые блюда и познавали новые вкусы.
В Китае всё началось с того, что повара научились различать и отделять мутную воду от чистой питьевой, а затем они стали забивать скот, исполняя при этом ритуальную музыку и танцы. В нашей стране род Такахаси много веков подряд устраивал пышные застолья. Глава Управления садов и прудов на протяжение многих лет вспарывал брюхо карпам. Нет никакого смысла рассказывать небылицы, так как всё последовательно вытекает из прошлого. Я часто спрашивал у представителя рода Такахаси, который ответственен за государеву кухню и организовывает пиры, про культуру питания в Китае и Японии. Он не отказал мне и любезно предоставил некоторые свои записи.
Форель – хара-ака
Когда император Кэйко15 отправился в Цукуси16, рыбаки поднесли ему именно эту рыбу. На двадцать четвертый день первого месяца пятнадцатого года Тэнпё17 императору Сёму18 также преподнесли эту рыбу от управления Дадзайфу. С этих пор повелось, что каждый раз в первый день Нового года необходимо подать эту рыбу на празднич- ный новогодний стол. С давних времен рыба эта называлась «хара-ака», то есть «красное брюхо». Обычно праздничная трапеза заканчивалась тем, что каждый съедал эту рыбу. Рыба хара-ака относится к лососевым. В Ши цзин19 также упоминается рыба, пойманная девятью сетями, относящаяся к семейству лососевых.
Ёсино кудзу
Когда государь Ōдзин20 совершал высочайший выезд в Ёсино , у подножия гор его встречали лю-ди- кудзу21, они преподносили ему сакэ и пели в честь него песни. Люди- кудзу жили в горах вдоль реки Ёсино. Как правило, они не имели контакта с другими. Изредка, например, когда приезжал государь, они покидали горные чащи и преподносили ему сезонную рыбу. В первый день Нового года люди- кудзу пели песни, били в губные барабаны, и отовсюду было слышно, что в Ёсино отмечают начало Нового года. В это время сезонной рыбой считается вид форели- аю . Также есть упоминания о том, что в Ёсино совершал высочайший выезд государь Киёмихара22, и люди- кудзу вышли из гор его поприветствовать и совершить обряд.
Молодая зелень
Традиция преподносить в первые дни Нового года молодую зелень берет начало во времена правления государей годов Канпё23. В последующие годы Энги24 и Тэнряку25 также прослеживается эта традиция. Существовал набор из семи трав: пастушья сумка обыкновенная (надзуна), мокрица (хакобэра), японская петрушка (сэри), японская репа (судзуна), сушеница (гогё), ростки японской редьки-дайкон (судзусиро), яснотка (хотокэ-но-дза). Также был набор и из двенадцати растений: мокрица (хакобэра), японский салат (тися), япон- ская петрушка (сэри), орляк (вараби), пастушья сумка обыкновенная (надзуна), штокроза (афухи), многолетник (сиба), полынь (ёмоги), водяной перец (датэ), кладосифон (модзуку), сосна (мацу). Иногда сосну (мацу) заменяли на японскую репу (судзуна). Другое название японской репы – ко-хонэ. Если же говорить о сосне (мацу), то она являлась одиннадцатым растением в данном наборе, её специально выращивали, а затем её ветки использовали в качестве праздничных подношений. В китайском трактате Гу цзинь ши вэнь лэй цзюй26 так и написано, что на седьмой день первого месяца совершались подношения «семью травами». Считалось, что если в этот день их съесть, то они избавят от всех болезней.
Каша
В пятнадцатый день Нового года в качестве подношений использовали жидкую рисовую кашу-каю. В древние времена в Китае обитал злой дух Си Ю, но после того, как Небесный Владыка Хуан-ди27 одержал победу над вождями отдельных племен, на пятнадцатый день первого месяца он убил и Си Ю. После смерти злой дух превратился в Тэнгу28, продолжив своё земное существование. Поэтому и в наши дни считается, что если совершить подношение Тэнгу, выставив вечером в сад на специальной подставке в определенный час сваренную кашу из красных бобов, а затем, повернувшись на восток, дважды упасть на колени и съесть кашу, то это избавит от болезней на целый год. У легендарного императора Ку29 была жена, которая вдруг захворала и на пятнадцатый день первого месяца умерла в дороге. Однако душа её так и осталась на земле, она бродит по дорогам и беспокоит путников. Так как при жизни она очень любила эту кашу, то и сейчас, если ей сделать подношение, то и беды обойдут стороной. В Японии обычай появился на основе этих двух легенд. Вероятно, о происхождении этого обычая помнят и тогда, когда, к примеру, при переезде в новый дом этой кашей окропляют четыре угла в помещении. Примерно с годов Канпё каждый год стали использовать кашу в качестве подношений. Кроме этого, в это же время было установлено, что каша будет являться основным подношением и во время сезонных праздников, как например, на третий день третьего месяца. В девятой главе хроники, созданной одним из Правых министров, написано, что каша готовится из семи ингредиентов: белое зерно, бобы (мамэ), красная фасоль (адзуки), чумиза (ава), каштан (кури), хурма (каки), красные бобы (сасагэ). В трактате «Цянь цзинь юэ лин»30 говорится, что если в первом месяце отведать эту кашу, приготовленную из злаков дзио, из омеж-ника-бōфу:, из перилла-сисо и т.д., то это пойдет только на пользу.
Рисовые лепешки – кусамоти
Традиция употреблять на третий день третьего месяца в пищу рисовые лепешки- кусамоти берет своё начало со времен императора Ю31 из династии Чжоу . Более подробные детали о появлении этого обычая неизвестны. В «Цзянь цзинь юэ лин» говорится, что в этот день срывали моксу32, обирали её, а затем она шла на изготовление лекарств.
Тимаки33
На пятый день пятого месяца бытует обычай есть тимаки – рисовый колобок, завернутый в листья. Существует легенда, что в древние времена в Китае на пятый день пятого месяца сын императора Ку, известный своими плохими делами, находился в лодке в открытом море, но налетела буря и потопила судно. Тогда он превратился в Духа Воды и стал пугать простых людей. Кто-то взял нити пяти цветов, обернул их вокруг рисового колобка, завернутого в листья, и лишь бросил в море, как рисовый колобок превратился в пятицветного небесного дракона. Испугавшись дракона, дух перестал причинять страдания морским божествам и людям, и все несчастья стали обходить стороной лодки из дерева. Также в китайских источниках говорится, что, когда Цюй Юань34 утопился в реке Мило, появилась традиция бросать в воду тимаки в память о том, что он стал кормом для рыб. К тому же, у Абэ-но Сэймэй35 и в нескольких китайских источниках есть упоминание о том, что тимаки по своей форме напоминают злых духов, и если эти рисовые колобки съесть, предварительно развязав веревки и развернув листья, то и духи отступят. В Китае во времена династии Тан36 появилось огромное количество различных видов тимаки для сезонного праздника пятого дня пятого месяца: квадратные; круглые; ромбовидные; квадратные с добавлением проса; тимаки, обмотанные сотнями белых шелковых нитей; девять одинаковых тимаки, нанизанных на одну деревянную палочку. Тимаки делали и квадратными, и круглыми, и ромбовидными, и цилиндрическими, как бамбуковый стебель, и в виде гирьки, подобной той, что цепляется на удочку, на них также наматывали нити пяти цветов и собирали их в грозди, подобно чёткам. Тимаки нанизывали на палочку подобно данго37, девять штук – одну за другой. Их всегда заворачивали в широкий лист злака-макомо38. Так было и с квадратными тимаки, и с тимаки с добавленным просом. В давние времена именно это блюдо приготовила старшая сестра Цюй Юань на его похороны. И упоминание об этом можно найти в Цянь цзинь юэ лин. Сестру звали Ну Сюй.
Лёд39
Считается, что в первый день шестого месяца соблюдался обычай, когда лёд распределяли среди подданных императора. В пятом месяце 62 года правления императора Нинтоку40 принц Нэката-но-Оонака-хико поехал на охоту в Тукэ. С вершины горы принц оглядел окрестность и заметил вдалеке шалаш с соломенной крышей. Тогда он отправил посыльного поглядеть. Вернувшись, тот доложил, что это пещера. Тогда принц спросил у местных, кто проживал в этих горах, они сказали, что в этой пещере хранится лёд. Принц спросил, как его хранят и для чего потом используют. Ему ответили, что вырывают специальную яму в один дзё41 глубиной, потом покрывают её крышей из тростника, внутри выстилают травой или камышом, а сверху укладывают лёд. Из-за толстого слоя травяной подстилки лёд не тает. И даже в самые жаркие летние месяцы его можно использовать. Тогда принц преподнёс этот лёд государю Нинтоку и удостоился высшей похвалы. Так написано в различных древних хрониках. Отсюда пошла традиция в качестве подношений использовать лёд. С этих пор каждый раз, как наступала зима, этот лёд собирали и помещали в специальные хранилища, которые были построены по всей стране. Кроме этого, в первый день первого месяца в императорской кухне совершался обряд подношения льда – Хи-но-тамэси. Обряд заключался в том, что государю преподносили куски льда разной толщины: и толстые, и тонкие. В трактате Чжоу Ли говорится, что была специальная должность Рёсин – управляющие складами со льдом. Зимой, в самые холода, высоко в неприступных горах собирали заледеневший снег и отвозили его в хранилища, а летом, когда на улице становилось невыносимо жарко, доставали этот лёд и распределяли между подданными. В Шицзин говорится, что на второй день во льду появится отверстие, а на третий день лёд окончательно растает. В Цзо Чжуань42 говорится, что на севере в специальном хранилище держат лёд, а на западе, где всегда жарко, вынуждены брать лёд с севера. В древние времена китайский правитель Ши Фу в день Собаки43 приказал собрать лёд в замерзшем колодце и раздать его министрам. В Японии же до недавних пор все хранилища со льдом находились далеко в горах около [провинции] Тамба44.
Обряд Кадзё
На шестнадцатый день шестого месяца совершался обряд кадзё45. И сейчас в народе по- говаривают, что во времена сёгунов в эпоху Му-ромати46 в шестом месяце обычно проводились соревнования по стрельбе из ивового лука, чтобы отвлечься от невыносимой жары. Те, кто проигрывал в соревнованиях, должны были на шестнадцать китайских монет купить угощение и преподнести его победителям. Кадзё47 – это также девиз правления 17 года китайского императора Нин-дзу48. С первого года правления императора Нин-дзу каждый год в течение шестнадцать лет чеканились особые монеты, затем в этот день (шестой день шестого месяца) все шестнадцать монет были преподнесены императору от Правого Министра. И хотя в записях, оставленных Правыми Министрами, не упоминается эта история, но принято считать, что традиция обряда кадзё появилась именно так.
Праздник Танабата (Сицусэки)
Вечером седьмого дня седьмого месяца, когда Ткачиха (Орихимэ) и Волопас (Кэнгю) переходят небесную реку и встречаются друг с другом, принято выставлять плоды дыни и совершать праздничные подношения этим двум звёздам. Так как в этот день и мужчины, и женщины просят о том, чтобы небо одарило их талантом, этот праздник также называется Кицукотэн – «День, когда просят о ниспослании таланта».
Праздник Урабон
Пятнадцатого числа седьмого месяца из бамбука плетут специальные [формой, напоминающие миски] корзины, накладывают в них белый рис и совершают подношения: поклоняются осенним богам-ками и молятся о хорошем урожае зерновых. Называются такие корзины-миски урамбон. Уран – это один из видов плетенной корзины. Обычай этот известен с давних времен. В наше время рис, который используется во время ритуала Бон, накладывают на листья лотоса. Тем не менее, и до нас дошла легенда, что мать Мокурэна49 оказалась в мире «голодных духов»50. Мокурэн пытался изо всех сил спасти свою мать. Он проводил ритуалы, оставлял ей подношения, но еда превращалась в огонь, или же горло матери становилось настолько узким, что через отверстие могла пройти только иголка. Взволнованный Мокурэн пошел к Будде. Будда посоветовал ему положить на поднос разные кушанья и напитки и раздать всем, кто встретится на его пути. Мокурэн последовал этому совету и таким образом избавил мать от страданий. Слово «уран» на языке брахманов51 означает «великое страдание». Произошло это пятнадцатого числа седьмого месяца. Слово «уран» стали по звуковому принципу записывать теми же иероглифами, что и плетенные корзины. Это и дало название празднику.
Праздник Хассаку52
Праздника « хассаку » в древности не существовало. Впервые его начали справлять в годы Кэнтё53 . Поскольку молились за хороший осенний урожай на полях, то в народе пошла традиция называть первый день восьмого месяца – «днем поля».
Сакэ из хризантем
На девятый день девятого месяца устраивают пир в честь праздника хризантем. Другое название этого праздника – Тё:ё: 54. В этот день от лица императора подданным преподносится сакэ из хризантем. Устанавливается специальный постамент, на который по краям справа и слева вешают мешочки с веточками и плодами дикой маслины, а перед постаментом ставится ваза с хризантемами. Считается, что если надломить веточку дикой маслины и прикрепить её к головному убору, то это избавит от несчастий. Давным-давно один отшельник Фей Чанфан предсказал Хуань Цзин из Жунань , что на девятый день девятого месяца в его доме случится беда. Тогда Хуань Цзин и его родные смастерили мешочки, положили в них веточки дикой маслины, закрепили эти мешочки на руках возле локтей, отправились в горы и стали пить там сакэ из хризантем. Это должно было избавить их семью от предсказанных бед. Когда вечером они благополучно вернулись домой, то обнаружили, что весь их скот неожиданно умер. Так и появилась традиция в этот день пить сакэ из хризантем.
Рисовые лепешки – инокомоти 55
В начале десятого месяца в день кабана во всех ведомствах при императорском дворе заготавливали такие рисовые лепешки- моти и совершали преподношения императору, который изволил лакомиться этими сладостями. Считается, что если в день Свиньи в десятом месяце съесть такую рисовую лепешку, то отступят все болезни. Когда возникло это поверье – неизвестно. Если в своде Энгисики56 встречаются упоминания об этом лакомстве , значит, традиция берет свое начало издревле. Известно, что в четвертом году эпохи Дзё:ан57 правительство направило запрос относительно древности этой традиции. Известно также, что старший секретарь Государственного совета Ёрисигэ и чиновник Моронао написали ответ, но это не прояснило ситуацию. Все эти факты упоминаются в летописях. В «Повести о принце Гэндзи» встречается фраза: «Сколько же их [лепешек] прикажете подать в честь дня Крысы»58 . И на следующий день все моти были съедены.
Бобы в канун весны – сэцубун мамэ
Во время праздника Сэцубун59 обычно по всему дому разбрасывают бобы, приговаривая: «Черти вон! Счастье в дом!». И это уже стало обычаем. Во дворце государя в этот день проводят обряд цуина. Он заключается в том, чтобы изгнать всевозможных злых духов из дворца. Другое название этого обряда они-яраи. В хронике династии Хань60 встречается упоминание о том, что с наступлением ночи в этот день смешивали зерно с бобами и разбрасывали их. Бобы являются одним из пяти основных злаков. В древности один поэт воспел в своих стихах новогодние бобы, а затем бросил их наземь, и бобы попали прямо в глаза злым духам, находившимся в доме. Поэтому и сейчас считается, что когда разбрасывают бобы, они летят прямо в глаза демонам.
Карп – кои
Как сказано в книге Ши цзин в главе «Песни Чен»61 : «Если и употреблять в пищу речную рыбу, то это непременно должен быть карп». Среди всех рыб карп считается самым вкусным. Когда у Конфуция родился сын, то по случаю этого события в качестве подарка был прислан карп, и отец решил назвать сына Ли – что означает «карп», а после обряда совершеннолетия – гэнпуку мальчик получил новое имя – Бо Юй62. Несомненно, эта рыба является благопожелательным символом! Карп двигается вверх по водам Желтой реки от гор Кунлун, минуя горы Цзи Ши Шань на пути к бурному водопаду, который называют «ворота Дракона»63. Здесь, у этого водопада течение становится в три раза сильнее, а шум от него подобен раскату миллиардов громов, что раздаются одновременно. Весной в третьем месяце, когда цветы от персиковых деревьев опадут в воды Реки, карп начинает плыть вверх по течению к водопаду. Если он сумеет перепрыгнуть водопад, то он превратиться в Дракона. Если же он не справится с этим препятствием, то сорвется в бурлящие воды и погибнет. Среди всех рыб только у карпа, у самой выдающейся рыбы, может возникнуть желание – преодолеть водопад! Превратившись в дракона, он поднимается высоко в облака и, цепляясь за туман, свободно парит между небом и землей. Также карп является олицетворением энергии «инь». Числовой символ «инь» равен шести, а шесть раз по шесть – это тридцать шесть, и именно такое количество чешуи у карпа, независимо от того взрослая это рыба или еще маленькая. У всех рыб, когда они умирают, меняется цвет. Только карп и после смерти остается прежнего цвета.
Морской судак – судзуки
Когда У-ван 64 совершал переправу по реке Мэнц-зинь , то вокруг кораблей плавало много белой рыбы. Он принял это за благое предзнаменование, и ему удалось свергнуть государя царства Чжоу 65 из династии Шан и стать правителем Поднебесной. Как гласят источники, белая рыба была морским судаком, который верно служил У-вану . Великий полководец Цао Цао66 , который жил в эпоху Троецарствия, очень любил вкусно покушать, в том числе и морского судака из Сонкō 67 . Как-то раз один даосский монах Цзоу Чи налил в медное блюдо воды и с помощью магии на глазах у изумленной публики и перед самим Цао Цао выудил из этого блюда судака из Сонкō .
В эпоху Троецарствия блюдо намасу68 из судака вместе с бульоном из водного растения бразе-ния69 считалось особенным и готовилось только в Сонкō . Затосковав по этому блюду, Дунпоцзюйши 70
вернулся в Сонкō и стал ловить судака большого и мелкого у красной стены. Поскольку морской судак белого цвета, то он очень похож на серебристую речную рыбу. Когда готовишь из этой рыбы блюдо намасу , то кусочки получаются тонкими, словно нить, и можно приготовить разные виды намасу : ито-куваи, кёку-куваи . В эпоху правления династии Суй 71 считалось, что кёку-куваи обладает изысканным юго-восточным вкусом. В нашей стране морской судак стал символом процветания дома Тайра , у корабля Тайра Киёмори также было много этих рыб, выпрыгивающих из воды.
Речной карась – фуна
Карась относится к семейству карповых. Еще в сочинениях Чжуан-цзы 72 встречается упоминание о карасе, который водится в дорожной колее, поэтому рыба эта известна с давних времен. Карась издавна является деликатесом: в трактате « Вёсны и осени господина Люя » говорится, что при приготовлении блюда умаки73 используется карась из озера Дунтинху 74. В своих стихах Су Шунь Ц и нь75 писал, что в одиночестве с утра до вечера долго-долго ждал на мосту Сё:кё: Золотистого карася. Значит, существует и карась золотистого цвета. Этот пруд называется Пруд Золотистого Карася. Подобно тому, как место Сонкō славится своим судаком, так и озеро Дунтинху славится карасями. А также известны карась из Ōми76 и карп из Ёдо77 .
Морской карась – тай
Давным-давно во времена Богов, когда Хикохо-ходэми-но Микото78 ловил рыбу, крючок заглотила рыба-акамэ79. Однако Владыка Воды освободил рыбу-акамэ, снял её с крючка. Может, история эта случилась и не с акамэ, а с кутимэ. Акамэ – это карась. Кутимэ – это лобан80. Поэтому морской карась известен еще с легендарных времен. В тексте Фудоки81 земли Нагато-но-куни82 упоминается, что пролив Симо-но-сэки83 был назван в честь рыбы акамэ. Его следовало бы называть Акамэ-но-сэки, но ошибочно прижилось название Симо-но-сэки. В своде Энгисики также упоминается некая «плоская рыба», имеется в виду морской карась.
Кета – сакэ
Река Коромогава в провинции Ōсю и провинция Этиго славятся кетой. Известно три разных названия вяленой кеты: совари , сиобики , карад-закэ . Минамото Ёритомо была преподнесена эта рыба в вяленом виде от Кадзивара Кагэтоки 84. Однажды Дайнагон85 Сидзё Такатика слышал, будто бы невозможно достать сушеную кету даже для императорской трапезы, но он не поверил этому. «Почему же нельзя найти сушеную кету?! Ведь сушеную рыбу аю86 подают императору во время трапезы». В Китае также с наслаждением едят эту рыбу. В Нанси 87 упоминается, что Юку
Хаси отведал 27 видов кеты. Даже Ду Фу 88 написал в стихотворении, что ему стыдно, что кета не подается на стол. А Хуан Тинцзянь 89 писал в одном из своих произведений: «Женщина накормила свою свекровь умело приготовленной кетой». Если вспомнить о традиционной фитомедицине, то у иероглифа «кета» одинаковое чтение с иероглифом «кацура» 90 . Существуют люди, которые считают, что кету лучше называть кэй , как и дерево кацура . Но я называю кету – сакэ , как это было изначально принято в Японии.
«Рыба из королевских объедков»91
Когда правитель китайского царства У 92 Хэ-лу 93 сплавлялся по реке, он кушал намасу94 из рыбы, а объедки выбрасывал в реку. Попав в реку, объедки превращались в рыб. Так и закрепилось за этой рыбой название «рыба из остатков намасу ». Она также называется «рыбой из королевских объедков». По другой версии, рыба появилась из объедков правителя царства Северная Чжоу95 Юйвэнь Чань 96.
Кальмар или «вороний разбойник»
Кальмар всплывает на поверхность воды, отчего становится заметен воронам, однако как только вороны пытаются его клюнуть, кальмар сворачивается «трубочкой», хватает птиц и утаскивает их под воду. За это он и получил название «вороний разбойник». Живущие у морского берега люди рассказывают, что во времена династии Суй97 в Восточное море были выброшены мешочки-санбукуро98, которые и превратились в кальмаров. Поэтому кальмар выглядит как рыба, подобен мешочку и внутри у него черная тушь. Если кальмара сначала солят, а затем сушат, то называют такой способ приготовления мэйсō, а если его сушат, пока он свежий, – тансō. Однако и в том, и в другом случае кальмара едят сушеным.
Осьминог – тако
В Японии осьминога называют либо сё:гё , либо тако . Люди в царстве Минь 99 и царстве Юэ100 ели осьминога вместе с уксусом, изготовленным из имбиря. Хань Юй101 писал, что в битве с морскими гребешками осьминог выглядел ужасающе. У осьминога тело маленькое, а щупальца длинные, поэтому его также называют «сэкикё» – «длинный камень». Его солят и жарят. Иногда осьминога называют « тэнага дако » – «длиннорукий осьминог». В японском языке китайский иероглиф «сō» («паук») читается как «тако», но откуда возникло это чтение, неизвестно. Осьминог – это тот же длинноногий паук. Осьминог похож на паука, поэтому и был позаимствован этот иероглиф.
Медуза – курагэ
У медузы нет глаз. Всплывая на поверхность воды, медуза становится похожа на вату. Рядом с медузами часто водятся креветки, но когда пытаешься поймать креветку, она уходит под воду, а вместе с ней уходит и медуза. В книге Вэнь Сюань 102 говорится, что креветка – глаза медузы. Также говорится, что медуза одалживает глаза у креветки. По-японски медуза называется «суйбō» . Но есть и другие названия: сэкикё: – «каменное зеркало», кайкё: – «зеркало моря», кайда – «морская змея». Медузу окунают в воду с повышенным содержанием известняка или алюминия, добавляют пепел от ростков баклажана, а затем промывают и употребляют в пищу с имбирным уксусом.
Креветка – эби
Существует несколько вариантов написания иероглифа «креветка»103, но в обоих случаях сло- во произносится как «эби». Креветки, которые водятся в реках и озерах, окрашены в белый цвет, а креветки, которые водятся в оврагах, – в пепельный. Однако если их поместить в кипяток, то любые креветки становятся красного цвета. В Китае их едят, предварительно приправив уксусом. Их могут готовить и на пару. Также креветки вымачивают в имбирном уксусе. Большие креветки называются морскими креветками, потому что они водятся в море. Из креветок делают блюдо намасу. Их также сушат. Один из видов морской креветки – это креветка Исэ-эби104.
Сушеная рыба – хосимоно
Сушеную рыбу называют « хō»105 , так как, когда рыбу сушат, она становится меньше. В Ли Цзи106 такую рыбу называют «мёртвой рыбой». Свежую пресноводную рыбу сушат и солят, такой вид называется «тангё» . Если рыбу насаживают на деревянную палочку и выставляют на улицу сушиться или потрошат, а затем насаживают на веревку, то она называется «хōгё» . А если просто солят, то – «энгё». Всё это разные виды вяленой рыбы. Некоторые рыбы источают очень неприятный запах при вялении. Например, рыба- коносиро . В Японии морское ушко тоже называют «хō» , его сушат, предварительно насадив на деревянную палочку. В этом случае и морское ушко может считаться сушеной рыбой. Сырое морское ушко нельзя назвать « хō». Морское ушко называют «хакугё» или «кэ-цумэйси» . В древней песне поётся, что к приезду императора в доме необходимо заранее повесить занавеси107 и решить, какую рыбу ему преподнести. Без морского ушка никак не обойтись108.
Носи
Носи 109 – это сушеное морское ушко110. Его также называют «сэкикэцумэй» или «кукōра» . Из-за того, что в этом моллюске девять дырочек, его и называют «кукōра» .
Утюг делают из меди. В него кладут горячие угли, а затем им разглаживают вещи. В царстве Цзинь111 пока мать Канкōхаку шила одежду для своего сына Кōхаку , он принес ей утюг. Мать предложила разгладить хакама, но Кōхаку сказал, что это не имеет смысла. Если внутри утюга огонь, то ручка утюга сильно нагревается. А когда надеваешь одежды, то подол всё равно останется мятым. Кōхаку был тогда совсем маленьким, он проявил сыновнюю почтительность по отношению к матери и показал свою сообразительность. Мать очень удивилась.
но во время новогодней трапезы), так как символизировало удачу, процветание и долголетие. Начиная со второй половины периода Токугава (1603-1867) сушеное морское ушко являлось одним из основных предметов экспорта из Японии в цинский Китай, где считалось, что блюда из аваби обладают особыми свойствами и идеально подходят для императорской трапезы. В Японии моллюски-а ваби также с древних времен являются частью новогоднего ритуального украшения- симэкад-зари : соломенных жгутов с вплетенными в них зигзагообразными полосками бумаги, кусочками тканей, пучками соломы, сушеными фруктами и рыбками. См. комментарий к носиаваби и утиаваби.
Морское ушко вытягивают, сушат и строгают. Так получается носи или утиаваби112 – «домашнее морское ушко». Во время правления династии Хань113 изготавливали специальные талисманы из разных камней, а также из меди. В длину они достигали 2 сяку 5 сун114. Ставили эти талисманы возле места, где сидели. Они способствовали благоприятной и спокойной атмосфере. «Утиаваби» делали похожими на утюг и на эти талисманы.
Журавль – цуру
Во время правления династии Чжоу115 правителю преподнесли кровь белого журавля. Её пьют для того, чтобы стать сильным. В анналах династии Хань говорится, что обычно охотились на черного старого журавля, которого затем использовали в качестве подношения правителю. Известно, что если слушать кото116 , распутные песни и любоваться журавлями, то это приведет к упадку страны117, поэтому необходимо сжечь, пустить на дрова кото , а журавля – съесть118. Только отшельники умеют летать на журавлях. Журавль живёт очень долго и является птицей с благопоже-лательной символикой119.
Лебедь – кугуи
Лебедь – это небесный гусь. А в Японии он называется « хакутё »120 – белой птицей, лебедем. Лебедь считается деликатесом121, и его подают на официальные пиршества. Говорят, что если съешь лебедя, то станешь сильным.
Дикий гусь – ган
Дикие гуси прилетают осенью с севера на юг. А весной улетают с юга на север. По законам мирового порядка они летают парами и живут парами, поэтому в Китае при сватовстве принято дарить дикого гуся как символ прочного замуже-ства122. В Шицзин 123 говорится, что на дикого гуся и утку часто охотятся. В Чу цы 124 говорится, что дикого гуся жарят.
рой остается один до самой смерти, поэтому журавль также являлся символом верности, а его изображение было неотъемлемой атрибутикой свадебного ритуала. В древних даосских легендах журавль почитался священной птицей, спутником или перевозчиком бессмертных- сянь . В китайской мифологии журавль был птицей, связанной со светлым началом ян. В Японии журавль считался самой вкусной птицей и был самым популярным объектом соколиной охоты среди самураев. В период Эдо крупные военные феодалы-даймё дарили убитых журавлей сёгуну в знак особой почтительности и уважения. Известно, что правительство предпринимало попытки регулировать популяцию этих птиц и даже был издан указ, по которому запрещалось убивать и потреблять в пищу журавлей всем, кроме представителей военного сословия [4 , c. 672; 18, c. 139-141].
В Хō Ханьшу125 упоминается, что кто-то в шутку сказал, чтобы сделаться управителем уезда Яньмэнь126 , необходимо съесть дикого гуся.
Курица – ниватори
Курица была особенно популярна в Китае. Также очень ценились куриные яйца127.
Фазан – кидзи
У фазана разноцветное оперение, поэтому его используют как украшение. Если на родовом гербе изображен фазан, это означает, что род чтит законы чести. Фазан стойко приемлет свою смерть, поэтому его часто преподносят в дар военным. Летом вяленое мясо фазана подают на стол императору. Это блюдо называется тидзэн . Чжун Ю128 , ученик Конфуция, как-то преподнес в дар своему учителю самку фазана. В Чжоу ли упоминается шесть129 разных птиц, которых употребляют в пищу, среди них есть и фазан.
Фазан считается деликатесом 130 . Одна из разновидностей фазана называется кэй . Фазан- кэй обитает на пастбищах. Иными словами, кэй – это японский фазан – ямадори .
Перепелка – удзура
В хронике династии Хань говорится, что мясо перепелки сперва солили, а затем жарили на огне. В Ли цзи упоминается, что из мяса перепелки варили суп. Перепелку также опускают в сакэ, затем оборачивают мясо листьями дере-ва- тадэ и тушат.
Первый иероглиф в слове « хōтэй» означает «кухня». Второй иероглиф [ 丁 ] взят из имени . Повар ведает делами кухни, часто разделывает мясо, рыбу и птицу, поэтому и нож, которым он пользуется, называется «хōтэй» . Давным-давно на нож вешали колокольчик, поэтому при резке всегда раздавался приятный звук. Такой нож называли «нож феникса». В Шицзин и в Ли цзи слова «феникс» и «колокольчик» читаются одинаково – «ран» . Чжуан Цзы говорил, что когда режешь ножом – хōтэй, то раздается звук от колокольчика, будто бы идёт представление. Существует и другой вид ножа – варитō. К нему не прикрепляют колокольчик, но он также хорошо режет.
Список литературы Хаяси Радзан "Заметки повара"
- Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедия Синто/А.Н. Мещеряков, Е.М. Дьяконова, Л.М. Ермакова и др.; под ред. И.С. Смирнова. М.: РГГУ, Orientalia et Classica, 2010.
- Горегляд В.Н. Дневники и эссе в Японской литературе X-XIII вв. М.: Наука, 1975.
- Духовная культура Китая. В 5-ти т. Т. 1. Философия/под. ред. М.Л. Титаренко . М.: Восточная литература, 2006.
- Духовная культура Китая. В 5-ти т. Т. 2. Мифология. Религия/под. ред. М.Л. Титаренко . М.: Восточная литература, 2007.
- Духовная культура Китая. В 5-ти т. Т. 3. Литература. Язык и письменность/под. ред. М.Л. Титаренко . М.: Восточная литература, 2008.
- Духовная культура Китая. В 5-ти т. Т. 6 (дополнительный). Искусство/под. ред. М.Л. Титаренко . М.: Восточная литература, 2010.
- Кравцова М.Б. Поэзия Древнего Китая: Опыт культурологического анализа. Антология художественных переводов. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994.
- Мифы народов мира. В 2-х т. Т.2/под ред. С.А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1988.
- Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи (Гэндзимоногатари). Т. 1./пер. и коммент. Т.Л. Соколова-Делюсина. СПб.: Гиперион, 2010.
- Нихон сёки. Анналы Японии. В 2-х т. Т. 1./пер. и коммент. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 1997.
- Рыков С.Ю. Древнекитайская философия: Курс лекций. М.: ИФ РАН, 2012.
- Симонова-Гудзенко Е.К. Пищевая культура//История Японской культуры. М.: Наталис, 2011.С. 322-350.
- Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы/пер. и коммент. Игнатович А.Н. М.: Ладомир, 1998.
- Encyclopedia of Korean Folk Culture. URL: http://folkency.nfm.go.kr/eng/twelvemonths. jsp?id=1410&d=&m=june
- Lindsey, W.R., 2007. Fertility and pleasure: ritual and sexual values in Tokugawa Japan. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Nishiyama, M. and Groemer, G. eds., 1997. Edo culture: daily life and diversions in urban Japan, 1600-1868. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Rath, E., 2010. Food and fantasy in early modern Japan. Berkeley: University of California Press.
- Shirane, H., 2012. Japan and the culture of the four seasons: nature, literature, and the arts. New York: Columbia University Press.
- Кодзиэн: дай сан хан . Токио: Иванами Сётэн, 1991.
- Нихон-но сюн сакана-но оханаси . -Режим доступа: http://www.maruha-shinko.co.jp/uodas/syun/16-suzuki. html
- Хаяси Радзан. Хо:тё: сёроку //Нихон дзуйхицу тайсэй. /под ред. Нихон дзуйхицу тайсэй хэнсю:бу, 23: 337-49. Токио: Ёсикава Кобункан, 1976.
- Ямамото Митико. Сики-но гёдзи-но омотэнаси . Киото: ПиЭйчПи эру Синсё, 2012.