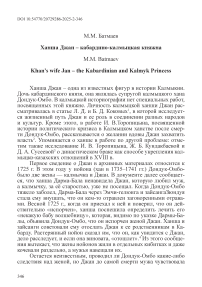Ханша Джан – кабардино-калмыцкая княжна
Автор: Батмаев М.М.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: События и судьбы
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
В Калмыцком ханстве междоусобные столкновения нойонов были не редкостью. Иногда они принимали довольно ожесточенный характер. Таковой была междоусобица начала 40-х гг. XVIIIв. В ее продолжительности и характере большую роль сыграла кабардинка, княжна Джан, жена умершего 21 марта 1741 г. хана Дондук–Омбо. События названной усобицы затрагивались в некоторых дореволюционных исторических работах. Еще меньше они освещались в советский период. Между тем это был важный этап калмыцкой истории. Достаточно отметить, что разыгравшиеся в ханстве события привлекли, мягко говоря, не совсем сочувственное внимание соседних народов, которые еще не входили в состав России. Самое же главное заключается в том, что к концу XVIII в. закончились попытки борьбы за самостоятельность правящей верхушки калмыков, и часть из них выбрала в 1771 г. путь ухода из пределов России. Для достижения поставленной цели привлечен в основном впервые вводимый в научный оборот архивный материал, взятый из фонда 36 «Состоящий при Калмыцких делах при астраханском губернаторе» Национального архива Республики Калмыкия. Долгое время фигура кабардинской, а затем и калмыцкой княжны Джан, не привлекала особого внимания историков, занимающихся изучением калмыцкой истории. Оживление интереса к ней, то есть к биографии княжны Джан, произошло в последние годы. В связи с этим здесь нужно назвать работы М. Батмаева, А. Цюрюмова, И. Торопицына, Л. и Б. Коковых.
Джан, Татищев, Бодонг, калмыки, Кабарда, кабардинцы, персидский шах
Короткий адрес: https://sciup.org/149148367
IDR: 149148367 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-346
Текст научной статьи Ханша Джан – кабардино-калмыцкая княжна
Khan's wife Jan – the Kabardinian and Kalmyk Princess
Ханша Джан – одна из известных фигур в истории Калмыкии. Дочь кабардинского князя, она являлась супругой калмыцкого хана Дондук-Омбо. В калмыцкой историографии нет специальных работ, посвященных этой княжне. Личность калмыцкой ханши Джан рассматривалась в статье Л. Д. и Б. Д. Коковых1, в которой исследуется жизненный путь Джан и ее роль в соединении разных народов и культур. Кроме этого, в работе И. В.Торопицына, посвященной истории политического кризиса в Калмыцком ханстве после смерти Дондук-Омбо, рассказывается о желании вдовы Джан захватить власть2. Упоминается о ханше в работе по другой проблеме: отметим также исследование И. В. Торопицына, Ж. Б. Кундакбаевой и Д. А. Сусеевой3 о династическом браке как способе укрепления калмыцко-казахских отношений в XVIII в.
Первое сведение о Джан в архивных материалах относится к 1725 г. В этом году у нойона (хан в 1735–1741 гг.) Дондук-Омбо-было две жены — калмычка и Джан. В документе далее сообщается, что ханша Дарма-Бала ненавидела Джан, которую любил муж, а калмычку, за её старостью, уже не посещал. Когда Дондук-Омбо тяжело заболел, Дарма-Бала через Эмчи-гелюнга и зайсангаЗюндуя стала ему внушать, что он кем-то отравлен заговоренными отравами. Весной 1725 г., когда он приехал к ней и поверил, что он действительно «испорчен», ханша поспешила определить лечить его «некакую бабу волшебницу», которая, видимо по указке Дармы-Ба-лы, объявила Дондук-Омбо, что он испорчен женой Джан. Ханша и зайсанги советовали ему отослать Джан к ее родственникам в Ка-барду. Растерянный нойон сказал им, что он, как увидится с Джан, дело расследует, и если она виновата, «отошлет».4 Из этого сообщения вытекает, что жены нойонов жили в отдельных кибитках и даже кочевали раздельно, а мужья навещали их.
Остается неизвестным, проводил ли Дондук-Омбо какие-либо следствия над женой, но Джан до самой смерти мужа чувствовала себя благополучно и позиции ее не были ни разу поколеблены. Между тем, дни жизни ее мужа были уже сочтены.
В последний раз посетивший его руководитель Калмыцких дел Л. В. Боборыкин доносил в Коллегию иностранных дел 11 декабря 1740 г.: «В бытность мою у него мне объявил, что он весьма в своем здоровье слаб и для излечения своей болезни покочевал в теплые места 13 декабря… И разсуждает он, хан, ежели по прошествии зимы от своих лекарей пользы от болезни не получит, то намерен просить для излечения оной своей болезни российского лекаря, а болезнь у него великая, в лице желчь и кашель с мокротою»5. 21 марта 1741 г. Дондук-Омбо, немало потрепавший нервы высоким правительственным сановникам и представителям местной администрации, скончался, назначив наследником и преемником власти десятилетнего сына Рандула, а до его совершеннолетия опекуншей жену, мать Рандула, Джан6. В связи с этим он уведомлял правительство, что о пожаловании сына в ханы просил Далай-ламу.
Все названные кандидаты не устраивали российское правительство. Особо вызвало недовольство обращение Дондук-Омбо к Далай-ламе без правительственного ведома. Для усиления контроля и влияния на обстановку в ханстве, к Калмыцким делам были привлечены, кроме полковника П. В. Боборыкина, который уже управлял ими, астраханский губернатор М. М. Голицын, царицынский комендант П.Ф. Кольцов, вызванный из Саратова полковник В. П. Беклемишев, в 1737 г. отстранённый от калмыцких дел по просьбе Дондук-Омбо. Вскоре ими было замечено, что кроме Джан и нойонов Бодонга и Сербета, остальные все калмыки, и верхи и низы, желают видеть ханом или наместником Галдан-Данжина, последнего из оставшихся в живых сына хана Аюки7.
В российском правительстве не было возражений против Гал-дан-Данжина. Поэтому предлагалось на местах поддержать его кандидатуру, а Джан с детьми при возможности арестовать и выслать под конвоем в ближайший город. Однако события на некоторое время вышли из-под контроля местной администрации. Джан была поддержана Бодонгом (младшим братомДондук-Даши) и хошут-ским нойоном Сербетом, а также зайсангами, в свое время возведенными в достоинство Дондук-Омбо из простолюдинов и боявшимися потерять свои аймаки при возвращении их к прежним владельцам.
В происшедшем 27 июня 1741 г. сражении между войсками Джан и Галдан-Данжина последний потерпел поражение, причем, сам он, нойоны Бай (сын Доржи Назарова) и дядя Бая Убаши были убиты. После смерти Галдан-Данжина правительство в выборе претендента на престол Калмыцкого ханства окончательно остановилось на кандидатуре Дондук-Даши, тем более что об этом просила
Дарма-Бала. К тому же из донесений из разных мест стало известно, что он пользуется в народе «кредитом», то есть влиянием и уважением. Дондук-Даши был вызван ко двору, где ему было объявлено о назначении его наместником ханства8.
А что же Джан? Она потеряла все надежды на главенство в Калмыцком ханстве. Более того, астраханский губернатор В. Н. Татищев и руководитель Калмыцких дел В. П. Беклемишев доношением в Государственную Коллегию иностранных дел от 29 ноября 1741 г. расставили все точки над «i». «Мы сами – писали они – довольно приметили, что её (Джан. — М.Б .) большая часть народа ненавидит, для того, что Дондук-Омбо так многих владельцев перевел и прот-чих улусы и скот обрал и большую часть старых зайсангов уничтожил и в убожество привел, а взяв ис подлости и татар, обогатил, то те обиженные стараются в ее в страх привести и к бегству принудить, а, обогащенные, боясь, что их ограбят и побьют, советуют, ей уйти. Третьи, держащиеся нейтралитета, а более всего духовные, советуют ей покориться воле правительства»9. Таким образом, Джан в очередной раз оказалась перед трудным для себя выбором. Почему так случилось? Здесь, как нам представляется, пришла пора хотя бы вкратце взглянуть на некоторые ее жизненные обстоятельства.
В XVIIIв. в отношениях между правителями народов большую роль играли династические браки. Подобная практика не миновала и Калмыцкое ханство. Так, Аюка и Дондук-Омбо были женаты на кабардинках10. Аюка выдал за правителя Джунгарского ханства Цеван Рабдана дочь Сетерджаб, а сам женился на его двоюродной сестре Дарме-Бале. Подобные примеры можно легко умножить.
Джан родилась в семье главного князя-валия Кабарды Курго-ко Атажукина. Как пишут Л. и Б. Коковы, «Имя Джан у мусульман встречается довольно часто. Слово джан («душа», «жизнь», «дух») имеет персидские корни и употребляется при обращении к близкому и дорогому человеку. Это может быть самостоятельная форма женского личного имени Джан, а также вариации в формах Джам, Жан. Но чаще имя встречается в составе двусоставных мужских и женских имен: Джамалдин, Джанмирза, Джамбулат, Джангуль, Аслы-жан и пр.»11
Нам не встречалось в архивах сообщение о дате женитьбы Дондук-Омбо. Коковы сообщают, что хан Аюка женил своего внука в 1721 г. Тут же утверждается: «До весны 1741 г., когда умер Дон-дук-Омбо, Джан была просто женой хана, тем не менее, она пользовалась большим авторитетом и влиянием среди соплеменников мужа»12. Оставаясь строго на документальной основе, необходимо отметить, что никаких данных о большом авторитете и влиянии Джан при жизни мужа в архивных материалах не встречается.
Только после смерти Дондук-Омбо дело круто изменилось, и Джан оказалась в гуще важнейших событий в Калмыцком ханстве. Правда, здесь необходимо отметить, что на первых порах Джан не помышляла о каких-либо насильственных действиях в улусах: к тому же вскоре после смерти мужа у нее родился пятый сын.
Между тем, правительство выработало ряд мер, которые, по его мнению, могли не допустить волнений в ханстве. Для их выполнения был избран В. Н. Татищев, который был не только выдающимся для своего времени историком, но и хорошим администратором. 15 августа 1741 г. он был принят вице-канцлером А. И. Остерманом, от которого получил приказ скорее ехать в улусы и стараться до приезда туда Дондук-Даши склонить калмыков к избранию последнего наместником ханства. В тот же день В. Н. Татищев виделся с Дон-дук-Даши (который в то время был в столице) в присутствии В. М. Бакунина и «обнадеживал»13.
Ознакомившись на месте с обстановкой, В. Н. Татищев доносил в Коллегию иностранных дел, что ханшу Джан приказано арестовать, «но видится, что вина ее преувеличена». С Галдан-Данжи-ном она воевать, по ее словам, не хотела и просила его, а также Л. Боборыкина и П. Кольцова (царицынского коменданта), чтобы они до получения указа ее не трогали. Когда же войска сошлись, она просила Л. Боборыкина не допускать боя, но ее никто не послушал.
Далее В. Н. Татищев дал Джан характеристику: он отмечал, что она человек «остраго разсуждения, а притом некоторых довольно искусных советников имеет» В.Н.Татищев думал, что ее опасаться не нужно, потому что она от своих улусов и детей без крайней нужды не уйдет. Если уж необходимо будет все-таки отобрать у нее улусы, то лучше всего ихпередать внукам Дондук-Омбо, детям Гал-дан-Норбо, которого «всем народом весьма любили»14.
Если со стороны большинства нойонов не ожидалось особенного сопротивления намеченным мероприятиям, то поведение Джан и ее сторонников, Бодонга и Сербета, вызывало серьезные опасения. По всему было видно, что Джан не собирается возвращать добровольно улусы, отобранные в свое время ее мужем у других нойонов. После двукратной личной встречи со строптивой ханшей в ее улусах В. Татищев и определенные ему в помощь В. Беклемишев и Л. Боборыкин пришли к выводу, что она лишь тянет время, чтобы дождаться на Волге льда и перейти на правобережье, откуда ей было «способнее», в случае вооруженного нажима, уйти в Кабарду к своим родственникам.
Между тем в неравном противоборстве нового наместника и овдовевшей ханши появилась весьма интересная сюжетная линия. Посланец Джан – Нима-гелюнг 29 октября 1741 г. сказал тайно В. Н.
Татищеву через дворянина Черкесова, что для успокоения калмыцкого народа лучше всего Дондук-Даши женить на ханшах Джан и Деджит (вдове предыдущего хана Церен-Дондука), так как в том как по закону их, так и по обычаю препятствий нет, и позволяется брату брать после смерти старшего или младшего брата его жену, а кроме этого утихомирить народ он способа не видит. На это В. Татищев сказал, что у него нет указа женить Дондук-Даши на ханшах, но если Джан такое намерение имеет, то пусть ему сообщит, и если тем способом можно разрешить трения, то он тому будет способствовать и склонять к тому наместника15.
На следующий день В. Татищев ездил за р. Ахтубу к Дондук-Да-ши и беседовал с ним через переводчика Черкесова о женитьбе. Наместник ответил, что ему о том и в Санкт-Петербурге «говорено», и если со стороны Джан будет такое пожелание, такое намерение, то он со своей стороны отрицать такую возможность не станет. Однако он тут же добавил, что «оное чинить будет под видом, только б ея тем захватить». В. Татищев советовал Дондук-Даши, чтобы он, согласясь с находящимися при Селитренном городке владельцами, отправил в свои улусы, которые при ханше Джан кочуют, надежных людей разведать о состоянии и намерениях их16.
И.В. Торопицын считает, что «борьба феодальных группировок за власть в Калмыцком ханстве, обострившаяся в начале 40-х гг. XVIII в., создала много проблем российским властям. Этот период в жизни Калмыцкого ханства характеризуется столкновениями противоборствующих группировок, разорением соперничающих группировок, разорением соперничающих улусов, гибелью значительной части калмыцкого населения»17. Представляется, что уважаемый автор преувеличивает значение «дела Джан», которая якобы возглавила «партию калмыцких феодалов» и оказывала «активное силовое давление на калмыцких владельцев»18.
-
11 ноября 1741 г. Джан прислала В. Татищеву письмо, в котором перечислялись условия, при выполнении которых и при даче присяги наместником Джан соглашалась выйти замуж за него. Так называемые «пункты» условий были следующими: «1) содержать ее яко честную жену в нелицемерной любви; 2) детей ее содержать яко своих рожденных; 3) никаких улусов от нее не отнимать и никому не отдавать; 4) имеющихся при ней зайсангов содержать в милости своей и при прежних местах оных оставить; 5) если Дондук-Даши на ней не женится, то калмыцкий народ между собой намерен учинить брань, ибо половина желает быть неотлучно при Волге (ба-гацатаны, Абу-гелюнг с улусами, Солома (вдова Досанга – М. Б .), Деджит (жена Церен-Дондука – М. Б .), Галдан-Норбо (хошутский – М. Б .), а вторая к побегу на Яик готова (Джан, Бодонг, Сербет и
- другие – М.Б.); 6)вышеописанные пункты чтоб Дондук-Даши в непоколебимой верности содержал, в том бы В. Татищев дал ханше письмо за своей рукой».
В. Н. Татищев ответил, что будет склонять к женитьбе Дон-дук-Даши, а для того чтобы тот по пунктам присягу дал, пусть Ни-ма-гелюнг (посланец Джан, который привез письмо) сам ему говорит, так как у русских нет такого порядка, ддавать присягу той, на ком женится, и принудить к тому он не может, «а особливо что до улусов принадлежит, в том они должны поступать по указу»19.
В. Татищев и В. Беклемишев посетили Дондук-Даши, который сказал: на Джан жениться не отрекается, а что касается условий, то посоветовал им совместно решить – какой ответ дать. На что В. Татищев и В. Беклемишев посоветовали дать присягу в таком виде: 1) во всем как ныне, так и впредь будет он, Дондук-Даши, поступать по воле всероссийского двора; 2) ханшу с детьми обещать «не обидеть и не умертвить», «а в протчих от них запросах отказать». Дондук-Даши такую присягу дать обещал20. После нескольких переговоров, в которых, по совету своих зайсангов, Дондук-Даши упрямился присягать в выработанной перед этим редакции, он был вызван к В. Татищеву и двум полковникам, то есть к В. Беклемишеву и Л. Боборыкину. Ему в довольно жесткой форме было сказано, чтоб он не тянул и «посланцам в тех двух пунктах присягу учинил».
Дондук-Даши, видимо с неохотой, но требуемую присягу дал: 1) ханшу и детей не умертвить; 2) исполнять все по указу всероссийского двора, то есть по тем пунктам, которые советовали В. Татищев и В. Беклемишев21.
-
15 ноября Джан через Бодонга велела сказать, что не будет при провозглашении наместником Дондук-Даши, потому что дважды виделась с В. Татищевым, а пришлет одного из сыновей. В. Татищев, видимо со скрытой усмешкой, ответил, что если и сын будет, и того довольно. По словам Бодонга стало известно, в стане ханши между знатными существуют большие несогласия и многие из них выступают против ее советов. Характерно, что 15 ноября к В. Татишеву приехала нойонша Солом (жена Досанга) с внуком и благодарила его за то, что ее освободил от ареста ханшей Джан. Ей было велено-быть «до времени» при Дарме-Бале. Внук ее – это сын Чидана, внук Досанга. 16 ноября приехала жена покойного хана Церен-Дондука, ханша Деджит, и тоже благодарила В. Татищева за освобождение от Джан22.
-
16 ноября 1741 г. В. Татищев и оба названных выше полковника объявили Дондук-Даши наместником Калмыцкого ханства. Джан вместо себя прислала 10-летнего сына Асарая. Во время торжественного обеда пришла весть, что Джан снялась из своего лагеря
и пошла к своим улусам. Поэтому обед постарались быстрее закончить, и участники его, довольно пьяные, разошлись. Здесь произошло довольно многозначительное событие: ханша Деджит, вдова бывшего хана Церен-Дондука, вместе с дочерью пошла с Дон-дук-Даши, по просьбе которого для их угощения отпущены баран, ведро вина и ведро меда, и из собственных татищевских запасов виноградное вино и конфеты23.
В тот же день отправлен был к Джан капитан Супонев с известием о провозглашении Дондук-Даши наместником и требованием о том, чтобы Джан и все имеющиеся при ней люди приняли присягу, поставили на тексте присяг печати и отправили присяжные листы обратно. Однако в ночь на 17 ноября приехал бывший при улусах Джан ученик калмыцкого языка Савва Везелев и донес В. Н. Татищеву, что ханша Джан внезапно снялась с лагеря и побежала неизвестно куда, а люди ее начали грабить друг друга, и от нее отстали с кошами (имуществом) ее приближенные Абу-гелюнг, Нима-гелюнг и зайсангГендей. Наутро приехал от Джан посланец и от имени ее сообщил, что она начала побег, испугавшись сообщения некоего «лживого человека», который сказал, что ее сын арестован, – но теперь она остановилась. Вновь посланный к ней Супонев возвратился и донес: ханша с духовными и зайсангами приняла присягу и подписалась, что желает быть в верности24.
В это время случилось еще одно событие, которое осложнило обстановку: приехал к Дондук-Даши человек из улуса Абу-ге-люнга с объявлением, что Сербет соединился с казахскими посланцами (что приезжали к Джан), и «улусы их (т.е. сторонников Джан. — М.Б. ) для откочевания к нему, наместнику, удерживал, а потом имел с ними бой, но против них не устоял и побежал от них прочь»25. Попутно отметим, что И. В. Торопицын и его соавторы, о ком уже упоминалось выше, считают: «Несмотря на частые конфликты, калмыцкие и казахские владельцы поддерживали между собой дипломатические контакты, а представители обоих народов даже вступали в родственные связи»26. Здесь требуется уточнение: что касается брачных отношений, то исключение составлял один случай среди знати – на казашке был женат Бодонг, младший брат Дондук-Даши. Среди простолюдинов же случаи официальной женитьбы калмыков на казашках (исключение составляли случаи наложничества), в XVIIIв. не встречались. Что касается томутов, о которых писал Н. Н. Пальмов, они и были в основном детьми наложничества27.
Посланцы Джан спрашивали у В. Татищева: можно ли владельцам, которые сами выражают в том желание, с ней кочевать. В. Татищев, избегая дальнейших домоганий на этот счет, твердо заявил: кому где кочевать, решает наместник, и где он прикажет, там и кочевать надлежит.
Как сказано выше, нойон Сербет пытался опереться на казахов. Обеспокоенный наместник направил к Сербету его брата Цойджи-па, чтобы тот без опасения шел к нему кочевать. Но тут вмешался случай. 21 ноября приехал Убуша, зайсанг владельца Лекбея, и объявил, что он с братьями поймал Сербета. Последний был привезен к В. Татищеву и В. Беклемишеву и на допросе сказал, что он поступал во всем так, как приказывала Джан. В. Татищев велел В. Беклемишеву допросить подробно Сербета, а после держать его под крепким караулом. Так начался вывод из игры влиятельных сторонников Джан, которая не желала складывать оружие28.
Почти в самом конце 1741 г., а именно 15 декабря, В. Татищев получил указ, который как бы регламентировал действия его в следующем году по отношению к Джан. Они состояли из двух предписаний. Во-первых, не допускать наместника до женитьбы на ханше Джан. Во-вторых, не допускать Дондук-Даши к присвоению всех улусов «и от того его искусным образом отводить и Бодонгу, если нет от него противностей, то ему об улусах нашу милость объявить». Указ был от имени Елизаветы Петровны, манифест о воцарении которой был опубликован в Санкт-Петербурге накануне – 15 ноября 1741 г.29.
Между тем арестованный Сербет давал показания, в том числе о событиях сражения, происшедшего 27 июня 1741 г. По его словам, Галдан-Данжина, Бая и Абуша (Убуша) велела убить Джан. Расправой с Галдан-Данжином руководил Сербет, его приказу претендента на ханский престол убили его люди, а кто убил Бая, Сербет не знал. Галдан-Данжин выступил против ханши первым. Джан и офицер из Калмыцких дел С. Ваулин не раз предлагали Л. Боборыкину предотвратить бой, но тот занял пассивную позицию, и когда они подошли к месту встречи противников, то бой уже шел и Галдан-Данжин сидел с людьми в осаде. И тут Л. Боборыкин не вмешался, а отошел в правую сторону к Ахтубе и стоял 3–4 часа в полутораверстах.
Допрошенный дворянин С. Ваулин добавил, что после окончания боя ханша прислала Л. Боборыкину известие, что Галдан-Дан-жин разбит и владельцы с его стороны убиты, и чтоб «для такого ее счастья» дать ей два ведра вина для ее ближних зайсангов, которые Л. Боборыкин и дал30.
В упомянутом указе от 15 декабря 1741 г., подписанном Елизаветой Петровной, корректировались предыдущие указания: «1. Апробуется (то есть, одобряется. — М. Б.) провозглашение наместником Дондук-Даши; 2. Стараться отправить Рандула ко двору. Джан оставить при улусе мужа — Багацохуровском. До замужества с Дондук-Даши не допускать; 3. Дондук-Даши до присвоения всех улусов не допускать». Указом от 31 декабря 1741 г. В. Татищев был назначен астраханским губернатором31.
-
В . Татищев послал к Джан Войска Донского походного атамана Осипа Поздеева для переговоров по некоторым вопросам. Тот сообщил письмом от 3 ноября 1741 г. от Сасыколей в Селитренный городок, где в то время был губернатор, что прибыл к Джан 31 октября, отдал ей письмо и подарок от губернатора. Джан в ответ поблагодарила. 3 ноября соглашалась на встречу с губернатором 13 ноября в урочище Берлюду, от Селитренного в 40 верстах. Она отправила В. Татищеву письмо, а в подарок послала девочку и кибитку с верблюдом. В разговоре с О. Поздеевым Джан говорила, что родственники мужа неоднократно нападали на нее напрасно. Отсюда «великие ссоры и убийства», «и ныне де меня поносят всячески, отчего она находилась в немалом страхе»32.
-
9 ноября 1741 г. В. Татишев получил очередное письмо от Джан. Она сообщала: «На назначенное число я с вами персонально видится намерена, однако ж чего я опасаюсь, надеюсь вы о том известны. На учрежденном для свидания месте извольте так видится со мною, как прежде сего виделся губернатор Измайлов, и прошу вас, чтоб я безо всякого страху опущена видится»33.
Сербет был допрошен вторично и бит плетьми, но ничего не прибавил и утверждал прежнее. Состоялась очная ставка его с дворянином Сергеем Ваулиным, которого подозревали в передаче вестей ханше Джан. Тем временем к Дондук-Даши были посланы дворянин Черкесов и переводчик Самсонов, чтобы допросить Бодонгао С. Ваулине. Бодонг был болен, но сказал, что Ваулин ему ничего не говорил, и о Джан, что тот что-то сообщал ей, тоже не слышал34.
Ознакомившись лучше с обстановкой в ханстве, В. Татищев и его помощники рядом донесений в Коллегию иностранных дел описали её, прибавив свои соображения насчет влияния на ситуацию. Что касается основного возмутителя спокойствия на тот момент, они вынуждены были признать: «Ханши Джан поступки так нам странны, что мы о ея намерениях подлинно дознаться не можем»35. Тем не менее, они со знанием дела обрисовали положение в ее улусах, где влиятельные круги разделились на три группировки.
К первой группировке относились обиженные еще Дондук-Ом-бо или самой ханшей, которые старались всевозможными мерами, в том числе и намеренно распускаемыми слухами, порою не имевшими под собой оснований, принудить Джан вместе с детьми бежать из улусов. Другая группировка состояла в основном из зайсангов, возведенных в этот разряд бывшим ханом из простолюдинов или подвластных татар; из опасения лишиться привилегий и аймаков в случае перемены владельца и раздела улусов они советовали ханше уйти со всеми ее улусами из пределов влияния российского правительства, как это делал в недавнем прошлом ее супруг. И, наконец, третья группировка, в которой преобладало духовенство, занимала нейтралитет и советовала ханше подчиниться воле правительства.
Проведенные мероприятия и усилия В. Татищева правительство в основном одобрило, а указом от 31 декабря 1741 г. он был назначен, как упоминалось выше, астраханским губернатором с подчинением ему и Калмыцких дел. Между тем, Джан письменно запрашивала В. Татищева, позволительно ли ей послать ко двору одного из сыновей и примут ли его там? В. Татищев обратился в столицу и в ответ получил указание, чтобы он объявил Джан и сам всячески старался, чтобы она отправила ко двору старшего сына Рандула, и если она на это согласится, то его, не мешкая, снабдив всем необходимым, отправить и строго проконтролировать, чтобы зайсанги его не увели в Кабарду или на Кубань, а Джан оставить при улусе ее мужа. Ставилась задача примирить ее с Дондук-Даши, но до замужества с ним не допускать. Если она пожелает, то для охраны дать ей «искусного» дворянина или офицера с достаточным количеством казаков.
События в ханстве продолжали развиваться в нежелательном для правительства направлении. 21 января 1742 г., по сообщению В. Татищева астраханскому коменданту Ф. Кнутову, Джан ушла в Кабарду, а вместе с ней 20 кибиток зайсангских семей, прочих калмыков со 100 людьми и 400 кибиток томутов – потомков смешанных браков казахов, башкиров и калмычек, исповедовавших ислам36. По данным А. В. Цюрюмова, томутов было 500 кибиток37, и «еще до побега Джан обратилась к своим братьям Мамберу и Касаю Корго-киным с просьбой встретить ее с войсками. Ситуация осложнялась тем, что на Северном Кавказе в 30–40-е гг. XVIII в. усилилось военное присутствие и политическое влияние Ирана38. А. В. Цюрюмов сообщает о переписке Джан с персидским шахом, о ее просьбе о помощи и заступничестве, о «предложении ханши Джан персидскому хану заключить династический брак, женив сына шаха на ханской дочери. Но в итоге пришло известие от российского резидента Калушкина из Персии о том, что шах во всем отказал ханше Джан»39.
По мнению И. В. Торопицына, по возвращении в Россию Джан, убедившись, что ситуация складывается не в ее пользу, «решает бежать в Персию». Однако обстоятельства (усиленный надзор со стороны российских властей и болезнь сына ее сторонника Бодонга) не дали ей осуществить задуманное. И.В. Торопицын пишет, что «в конце октября 1742 г. в Астраханскую губернскую канцелярию поступило письмо от бригадира Фролова-Бегреева, командовавше- го войсками на Царицынской линии, который сообщил, что ему стало известно о намерении персидского шаха принять в подданство всех калмыков. Его информатор утверждал, что персидский шах через одного из жителей Кизляра уговорил всех калмыцких старшин, в том числе и самого Дондук-Даши, перейти под его покровительство». Астраханский губернатор не поверил этим сведениям. И.В. Торопицын считает, что губернатор понял, что эти сведения касались ханши Джан и ее сторонников, поэтому дал секретное наставление дворянам, которые находились в калмыцких улусах, чтобы они собирали сведения о фактах переписки наместника и других зайсангов с зарубежными правителями40.
Отметим, что «дело Джан» втянуло в свою орбиту автора исторического произведения, эмчи (врачевателя) Габунг Шара-па (так правильнее, а не ГабанШараб). Оставшиеся после бегства Джан в Кабарду ее люди часто ссорились между собой, и по письму ученого-эмчи наместник послал знатных зайсангов успокоить их, но оставил их по-прежнему в ведомстве Габунг Шарапа. 19 июля В. Татишев получил письмо от Л. Боборыкина, что ханша Дарма-Бала три раза посылала за Габунг Шарапом, но он к ней не ехал. Тогда за ним был послан поручик, который его и доставил. Причина его ареста заключалась будто бы в том, что он списывался с джунгарами, которые стоят близ Оренбурга41.
После ареста Габунг Шарапа бежали из улусов ханши Джан Бодонг и ряд зайсангов с их людьми. Некоторые зайсанги говорили, что они, видимо, испугались ареста Габунг Шарапа, а потому и бежали. Бодонг бежал без Асарая, но с остальными детьмиханши, с зайсангами Сезен Габуном, Темер Болотом и с примерно 200 сопутствующими людьми42.
Не получив поддержки персидского шаха и уговариваемая братьями, Джан вернулась из Кабарды 6–7 июля к Астрахани на реку Башлоу, от города верстах в 40. После прибытия к указанному месту, Бодонг с тремя сыновьями Джан (кроме Асарая) в ночь на 21 июля вновь бежал «в 150 человеках», а Джан со 100 (или чуть больше) людьми осталась при Астрахани на Болдин-ском острове.
Бодонг прислал посланцев, Бугу с товарищами, которые по ордеру В. Татищева Л. Боборыкиным отпущены были к братьям Бодонга (Дондук-Даши уехал ко двору). Бордон (старший зайсанг наместника ханства) объявил Л. Боборыкину, что Буга им сказал: посланы они к Дондук-Даши «просить позволение о женитьбе Бодонга на ханше Джане, и якобы тамо господин маэ-ор Татищев и кабардинские князья Хасай и Намбет (очевидно
Мамбет.– М.Б .) в том им позволение дают. По слухам же эти посланцы прибыли скорее всего для разведки: какое здесь отношение к поступкам Бодонга, отпустится ли ему его вина, если он вернется в улусы, и действительно ли Дондук-Даши отправился ко двору»43.
1 августа 1742 г. Нимбат, вдова ГалданаНорбо (сына Дон-дук-Омбо от первой жены), прислала служителя Джамбу с сообщением, что Бодонг с детьми Джан 30 июля переправился на луговую сторону Волги, на ухвостье Копановской луки, и находится в Баруновых улусах, что он собрал 300 воинов и от него и его зайсангов поступил призыв собираться как возможно в большем количестве. Зайсанги Дондук-Даши — Бордон и другие — считали, что Бодонг может с Багацохуровских улусов собрать до 3 000 человек. Вообще Бодонг в летне-осенние дни 1742 г. развил кипучую деятельность по укреплению военно-политических позиций Джан, да и своих, но силы были слишком неравными44.
После побега Бодонга Джан задержали в Астрахани. В. Татищев приказал изолировать ее, а находившихся при ней зай-сангов арестовать, и только заступничество В. Татищева и влиятельных кабардинских родственников позволило ей остаться на свободе45. Бодонг вместе с детьми Джан – Рандулом и Додби – ушел в Кабарду. А Джан с сыном Асараем и двумя дочерьми отправили в Москву, и там ханшу крестили под именем Веры Дондуковой. В 1743 г. Рандула и Додби привезли из Кабарды в Астрахань и отправили к матери, куда в сентябре того же года отвезли и младшего сына Дондук-Омбо Джубасара вместе с «мамкой»-кормилицей. Дети Веры Дондуковой были крещены. Бодонг же, проскитавшись два года в Кабарде и на Кубани, в июле 1744 г. вернулся в улусы. Трения его со старшим братом, наместником ханства, не прекратились, хотя Бодонг и дал официально клятву в верности. Дело кончилось тем, что Дондук-Даши арестовал Бодонга в июне 1745 г. и, продержав некоторое время под караулом при своей ставке, передал русским властям, которые отправили его на жительство в Архангельск.
Так закончилась недолгая, но богато насыщенная различными событиями и обстоятельствами попытка ханши Джан взять в свои руки свою вдовью судьбу. Попытка не удалась, но она отчетливо высветила характер ханши Джан – смелый, решительный и целеустремленный, достойный при иной исторической обстановке лучшей доли. Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на значимость исторической фигуры ханши Джан в кабардино-калмыцких отношениях XVIIIв., нужно избегать характеристик типа «она прошла мученический путь» и т.п.