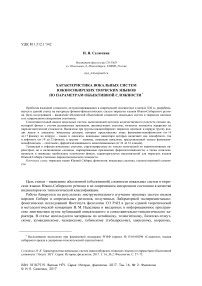Характеристика вокальных систем южно-сибирских тюркских языков по параметрам объективной сложности
Автор: Селютина Ираида Яковлевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Проблема языковой сложности, актуализировавшаяся в современной лингвистике в начале XXI в., разрабатывается в данной статье на материале фонико-фонологических систем тюркских языков Южно-Сибирского региона. Цель исследования - выявление абсолютной объективной сложности вокальных систем в тюркских идиомах в их современном синхронном состоянии. Сопоставительный анализ вокальных систем, выполненный методом количественного подсчета единиц инвентарей фонем с учетом релевантных признаков, организующих системы, позволил построить иерархию их парадигматической сложности. Выявлены три группы южносибирских тюркских идиомов: в первую группу входят языки и диалекты, вокальные реестры которых представлены лишь фонемами-монофтонгами (от 14 до 17 фонем); во вторую - языки и диалекты, вокальные инвентари которых включают как монофтонги, так идифтонги (от 19 до 23 фонем); в третью - идиомы, имеющие вокализм, представленный только фонемамимонофтонгами, - «чистыми», фарингализованными и назализованными (от 24 до 32 единиц). Тувинская и тофская вокальные системы, структурируемые не только оппозицией по квантитативным параметрам, но и включающие единицы, маркированные признаками фарингализованности, а также назализованности и имеющие наибольшее количество фонем, характеризуются максимальной для тюркских языков Южной Сибири степенью парадигматической сложности.
Тюркские языки южной сибири, фонология, вокальные системы, степени языковой сложности
Короткий адрес: https://sciup.org/147219736
IDR: 147219736 | УДК: 811.512.1'342
Текст научной статьи Характеристика вокальных систем южно-сибирских тюркских языков по параметрам объективной сложности
Цель статьи – выявление абсолютной (объективной) сложности вокальных систем в тюркских языках Южно-Сибирского региона в их современном синхронном состоянии в качестве индикаторов их типологической классификации.
Работа базируется на результатах инструментального изучения звуковых систем языков народов Сибири и сопредельных регионов, полученных Лабораторией экспериментальнофонетических исследований Института филологии СО РАН в русле единой теоретической и методологической концепции В. М. Наделяева и введенных в информационное пространство лингвистики путем публикаций описательного и сопоставительно-типологического характера. В статье используются материалы по алтайскому, теленгитскому, бачатско-телеут-скому, кумандинскому, чалканскому, тубинскому (тубаларскому), хакасскому, шорскому, барабинско-татарскому, чулымско-тюркскому, тувинскому и тофскому (тофаларскому) языкам 1.
Проблема языковой сложности, поднимавшаяся в научной литературе с 1970-х гг., в начале XXI в. привлекла внимание ученых в связи с пересмотром конкретных результатов изучения истории и типологии языков и приобрела статус одного из наиболее перспективных направлений в современной лингвистике. В острополемической дискуссии, нашедшей отражение в работах Дж. Мак-Уортера [McWhorter, 2001], Ваутера Кюстерса [Kusters, 2003], Эс-тена Даля [Dahl, 2004], Райана Шостеда [Shosted, 2006], Элисон Рэй и Джорджа Грейса [Wray, Grace, 2007], Гэри Лупяна и Рика Дейла [Lupyan, Dale, 2009], Питера Традгила [Trudgill, 2011], а также в сборниках статей под редакцией Матти Миестамо [Language Complexity…, 2008] и Джеффри Сэмпсона [Language Complexity…, 2009], было опровергнуто доминирующее в лингвистике представление о языках мира как характеризующихся одинаковой и неизменной сложностью [Sampson, 2009]: языки можно не только ранжировать по степени сложности, но и измерить ее количественно [Бердичевский, 2012].
В соответствии с задачами нашего исследования, наибольший интерес представляет критерий оценки языковой сложности, предложенный Мак-Уортером [McWhorter, 2001; 2007]: фонемный инвентарь тем сложнее, чем больше в нем типологически маркированных, т. е. редко встречающихся в языках мира, фонем. Функционирование маркированных фонем, характеризующихся наличием коррелятивного признака, предполагает наличие немаркированных членов оппозиций, более сложную систему фонологических противопоставлений.
Для измерения языковой сложности мы используем также предложенный Дж. Николз список формально-количественных параметров, характеризующих как системную (парадигматическую), так и структурную (синтагматическую) сложность [Nichols, 2009]. Системная сложность определяется: 1) количеством элементов (фонем, тонов, родов, падежей, способов построить придаточное предложение и т. п.) в каждой подсистеме; 2) количеством парадигматических вариантов (степеней свободы) для каждого элемента: аллофонов, алломорфов, словоизменительных классов. Показателями структурной сложности являются: 1) количество комбинаций элементов на разных уровнях, случаи согласования, валентности и т. п.; 2) ограничения на употребление элементов и их сочетаний. Поверхностная же сложность – это произносительная длина языковых единиц при их употреблении в речи.
Для определения парадигматической сложности систем гласных фонем в тюркских языках южносибирского ареала необходимо проведение сопоставительного количественного анализа единиц инвентарей фонем, выявление конститутивно-дифференциальных признаков, структурирующих системы.
Ниже представлены списки гласных фонем, выявленных в тюркских языках Южной Сибири путем дистрибутивного, морфологического и функционального анализа текстов.
Алтайский язык . М. Ч. Чумакаева, вслед за Т. М. Тощаковой [1938. С. 6-7] и Н. А. Баскаковым [1947. С. 226–227], выделила для фонологической системы алтайского литературного языка 16 гласных фонем: краткие - а , ы , о , у , э , и , о , у и долгие - аа , ыы , оо , уу , ээ , ии , оо , уу . При этом в некоторых позициях функционирование долгих узких нелабиализованных гласных невозможно: в инициали словоформы не употребляется фонема ыы , в финали – фонемы ыы и ии [Чумакаева, 1976. С. 64-66], т. е. фонема ыы встречается только в позиции ин-лаута.
В онгудайском говоре диалекта алтай-кижи А. А. Шалданова констатирует 15 гласных фонем: краткие - а [а ч ], ы [ъ], о [ c ], у [О ч ], э [ yJ , и [ i ], о [ Cn ], у [ u n ] и долгие - аа [а ч :], оо [ С ч :], уу [О ч :], ээ [ y ^ :], ии [ i :], оо [ c^ :], уу [и N :]; долгая фонема ыы не зафиксирована, долгая фонема ии [I:] квалифицируется как периферийная вследствие ее крайне низкой продуктивности. По мнению исследователя, отмеченная ситуация свидетельствует о более высокой интенсивности процесса формирования подсистемы долгих узких неогубленных гласных в нормированном языке по сравнению с базовым говором литературного языка – онгудай-ским [2007. С. 57].
В языке теленгитов Н. А. Кучигашева выделила 8 кратких и 8 долгих гласных фонем [1961. С. 57-58]. Г. Ф. Бабушкин добавил в список фонем гласный i ( ш ‘работа’, 6ip ‘один’, iрбис ‘барс’), рассматриваемый В. В. Радловым как звук между i и ы . При этом Г. Ф. Бабушкин отмечает, что звук i встречается в диалектах хакасского и шорского языков, в западных диалектах тувинского и северных диалектах алтайского языка [1966. С. 168]. По нашим наблюдениям, указанный звук i встречается фактически во всех тюркских языках и диалектах алтае-саянского ареала, но, реализуясь, как правило, в постпозиции к переднеязычным консонантам, он выступает в функции комбинаторного варианта фонемы и : после среднеязычного консонанта фонема реализуется в переднерядном оттенке «1», после переднеязычного согласного – в смешаннорядном « Н » или центральнозаднерядном «ъ>». Исключение составляет хакасский язык, где звуки и и i находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции и их функционирование не обусловлено наличием в препозиции передне- или среднеязычного согласного – эти звуки являются манифестациями двух разных фонем [Кыштымова, 2001. С. 19]. Фонологический статус гласного i в теленгитском диалекте исследователями не рассматривался.
В 1980-е гг. С. И. Машталир выделил в языке теленгитов Улаганского района лишь 14 гласных фонем: краткие - а [а], е [е], о [о], о [0], у [и], у [ з ], ы [ъ], и [i] и долгие - аа [а:], ее [е:], оо [о:], оо [0:], уу [и:], уу [ з :]; долгие гласные фонемы ии [i:], ыы [ъ:] в диалекте не выявлены [1984. С. 78].
По мнению Н. Д. Алмадаковой, в современном улаганском диалекте представлено 18 гласных фонем, в том числе 9 кратких - а , о , ы , у , э , о , и , у , а и 9 соответствующих долгих - аа , оо , ыы , уу , ээ , оо , ии , уу , аа . При этом краткий и долгий звуки а и аа характерны только для языка теленгитов-улаганцев и произносятся они «…с призвуком э , тяготеющим к звуку а .. При произношении долгого гласного аа доминирует призвук а , проявляющийся более отчетливо ... в языке носителей чолушманского говора, .звук а занимает промежуточное положение между монофтонгом и дифтонгом». Звук а употребляется в 1-м и 2-м слогах именных и глагольных словоформ. В диалекте алтай-кижи этому гласному соответствуют звуки э ( е ), о в 1-м слоге, а также во 2-м после гласных и , э , о , у 1-го слога. Кроме того, специфику улаганского диалекта – и особенно чолушманского говора – составляет функционирование в системе пяти фонем-дифтонгов: оа , уа , эа , оа , уа : тоа ‘гора’, соа:к ‘холод’, сууаар ‘вода=ваша’, эар ‘мужчина’, коа ‘сажа’, куа ‘зять’. Приведенные Н. Д. Алмадаковой данные свидетельствуют о единичных случаях формирования дифтонгов уа , ау в диалекте алтай-кижи: суак из субак ‘вода’, Наурчаков (антропоним) от нагур ‘дождь’ [2014. С. 31, 33, 37, 85–86]. Дифтонги ао , ау , оу зафиксированы и в языке туба-кижи, но в качественном отношении они отличаются от улаганских [Сарбашева, 2004. С. 207]. Долгие гласные передаются на письме путем удвоения соответствующих графем, позиционная долгота обозначается автором знаком двоеточие после графемы гласного звука, для обозначения дифтонгов используется соответствующее сочетание двух гласных графем ( башаар ‘голова=ваша’, ба:жым ‘голова=моя’, боа ‘сюда, здесь’) [Алмадакова, 2014. С. 23-24]. Следует отметить более высокую продуктивность долгих гласных в теленгитском диалекте по сравнению с алтайским литературным языком; ср., например: теленг. бар=ар=уус - алт. бар=ар=ыс ‘пойдем’, теленг. кбр=гбн=уус - алт. кбр=гбн=ис ‘видели=мы’ [Чумакаев, 2015. С. 325].
В чуйском говоре языка теленгитов (Кош-Агачский район Республики Алтай), по мнению А. К. Бидиновой, следует выделить 15 гласных фонем: а , аа , о , оо , э , ээ , б , бб , у , уу , у , уу , и , ии , ы ; долгая фонема ыы не зафиксирована в речи чуйских теленгитов . При этом в анлауте и инлауте чуйских слов употребляются все 15 гласных фонем, в ауслауте – 14 единиц: долгая фонема ии в ауслаутной позиции не встречается [2013. С. 24–31; Тазранова, 2012].
Исследование Н. В. Гаврилина показало, что в языке бачатских телеутов вокализм представлен 15-ю гласными фонемами - восемью краткими и семью долгими: а [ а ], е [е], о [C], о [ те ], ы [х], и [ i ], у [U], у [ з ], аа [ а :], ее [е:], оо [C:], бб [ те :], ии [ i :], уу [U:], уу [ з :]; долгая фонема ыы [х:] не функционирует в языке [1984. С. 67-73; 1987. С. 17; 1988. С. 53-62]. Аналогичные результаты получены Г. Г. Фисаковой [1984].
В языке кумандинцев центр вокальной системы составляют лишь 14 гласных фонем – восемь кратких: а [а], ы [ъ], е [e], и [i], о [5], о [о], у [U], у [ з ], и шесть долгих: аа [а:], ее [e:], оо [5:], оо [о:], уу [U:], уу [ з :]. Долгие фонемы ыы [ъ:] и ии [i:] не имеют полноценного функционирования, их употребление нерегулярно: в спонтанной разговорной речи слова типа кийис «kI:s б » ‘кошма’, сыгын «sъ:n» ‘марал’ могут быть произнесены отдельными дикторами с долгими [I:] и [ъ:], но при медленном отчетливом повторении этих же слов восстанавливаются сочетания двух гласных с интервокальным согласным: «kIjIs б », «sъ i ъn». Долгие фонемы [ъ:] и [I:] находятся, видимо, в стадии становления [Селютина, 1998. С. 4].
В языке чалканцев В. Н. Кокорин выявил наличие пятнадцати гласных фонем – восьми кратких: а [а], о [5], е [e], о [ те ], ы [ъ], у [U], и [i], у [ з ], и семи долгих: аа [а:], оо [5:], ее [e:], оо [ те :], ыы [ъ:], уу [U:], уу [ з :]; краткая фонема и [i] долгого коррелята не имеет [Кокорин, 1982. С. 14; Федина, 2008. С. 318‒328].
При изучении тубинского диалекта исследовались инвентари гласных фонем в чойском и турочакском говорах. В чойском говоре Г. А. Петькин и М. Ч. Чумакаева выделяют 16 вокальных единиц: а [а], ы [ м ], е [e], и [i], о [о], о [о], у [u], у [у], аа [а:], ыы [ м :], ее [e:], ии [i:], оо [о:], оо [о:], уу [u:], уу [у:], но ни одного примера с долгим гласным ыы [ м :] в статье не приведено [1989. С. 26–45].
В турочакском говоре С. Б. Сарбашева выявила 19 гласных фонем: кроме 16 монофтонгов - а [л а ], аа [л ^ :], э [х а ], ээ [х а ], ы [ш а ], ыы [ш а ], и [т/ъ а ], ии [г/ъ3“:], о [о/о], оо [о^/о":], о [О а „ ], оо [О а ; :], у [у], уу [6ч1], у [У а J, уу |» а “:], в системе функционируют 3 дифтонга - ао [ло], ау [лу], оу [оу]. Наличие дифтонгов сближает язык тубинцев с якутским и бара-бинско-татарским языками и определяет специфику тубинского вокализма на фоне контактных южносибирских тюркских языков [2004. С. 206–212].
Инвентари гласных фонем сагайского и качинского диалектов хакасского языка различаются как количеством функциональных единиц, так и их характеристиками. Сагайский вокализм включает 16 единиц, для качинского же диалекта релевантно выделение 17 фонем. Если в группу кратких гласных фонем входит в обеих идиомах по 9 единиц: сагайский - а [л.], е [es ZFJ, о [О], ы [ш.], и [isT], i [ъ. > н_], у [U], у [йi/ХN], о [зтк]; качинский - а [aN/aN], е [л.], о [оа], о [5а], ы [F./fn], и [ii/ъ.], i [ъ^], у [ц.], у [uN], то субсистема долгих гласных в качин-ском диалекте состоит из 8 фонем - аа [a.:/aN:], ee [л.:], оо [о.:], оо [5а:], ыы [F.:/fn:], ии [1^:/ъ.:], уу [ц.:], уу [и у]; в сагайском - из 7 фонем: аа [л.:], ee [es:/FN:], оо [О:], ыы [ш.:], ии [isT:], уу [U:], оо [y^:]; в сагайском диалекте, в отличие от качинского, нет долгой передне-рядно-центральнозаднерядной широкой огубленной фонемы ӱӱ [Кыштымова, 2001. С. 104].
Состав гласных мрасского диалекта шорского языка представлен И. П. Бородкиной [1977. С. 11–20]. Применив комплекс методов дистрибутивного и морфологического анализа с выделением фонем-монофонов, И. П. Бородкина выявила в рассматриваемом диалекте 16 гласных фонем: 8 кратких - а [ е ], е [e], о [о], о [ И ], ы [ъ], и [ i ], у [U], у [ з ], и 8 долгих - аа [ е :], ее [е:], оо [о:], оо [ И :], ыы [ъ:], ии [ i :], уу [и:], уу [ з :] [Там же. С. 18], подтвердив результаты, полученные ранее Н. П. Дыренковой [1941. С. 7–10], а также Г. Ф. Бабушкиным и Г. И. Донидзе [1966. С. 468]. При этом автор отмечает, что звуки о «о» и о « И » употребляются только в первом слоге словоформ и не встречаются в морфологических показателях, поэтому их фонематический статус установлен только путем сопоставления квазиомонимов: оt «ot» ‘трава’ - dt « И t» ‘желчь’, ол «о1» ‘он’ - ол « И 1» ‘влага’, одур «odUr» ‘сиди’ - одур « И d З r» ‘убей’ [Бородкина, 1977. С. 15].
По мнению Н. С. Уртегешева, в шорском языке наряду с краткими и долгими гласными, не имеющими дополнительной окраски, выделяются фарингализованные гласные, разли- чающиеся по длительности (краткие и долгие), типу тона (ровный, ровнонисходящий, резконисходящий, нисходяще-восходящий), регистру (верхний, средний, нижний); доминирующим для шорского является нисходящий краткий тон. Кроме фарингализованных, автор констатирует в шорском прерывистые гласные, артикулируемые с ларингальной вставкой между компонентами сложного звука. Анализируя гласные звуки на фоническом уровне, исследователь не определяет состав шорских вокальных фонем, отмечая, тем не менее, что «фаринга-лизация гласных в шорском языке – это отмирающий дифференциальный признак, не имевший ранее фонетического описания и не имеющий специального обозначения на письме» [2012. С. 41]. По-видимому, на данном этапе развития языка фарингализованная окраска в качестве сопутствующего релевантного признака свойственна в основном долгим гласным, а также кратким – в словах с «первичной фарингализацией», что позволяет нам принять инвентарь фонем, выявленный И. П. Бородкиной.
Вокальная система барабинско-татарского языка в описании В. В. Радлова содержит 4 широких гласных - а , а, о , о, и 4 узких - у , i , u , и. Кроме того, он выделяет 2 широких дифтонга - ua , иа, 4 лабиализованных - au , аи, ou , ои, из которых наиболее распространен дифтонг au , а также ряд узких дифтонгов или дифтонгов, одним из компонентов которых является i : ai , ei , oi и др. [Radloff, 1882. S. 5, 18–20].
В работах Д. Г. Тумашевой [1968. С. 22; 1969] и Л. В. Дмитриевой [1981] барабинская система гласных представлена 12 звуками, из которых 8 являются гласными общетюркского распространения: а , e , o , е, у , у , ы , и ; три гласных поволжско-татарского типа - краткие редуцированные о , о свойственны татарскому, башкирскому, казахскому и ногайскому языкам, гласный i кроме названных языков отмечается в хакасском и чувашском; гласный э сохраняется в первом слоге на месте древнетюркского а. По наблюдениям Д. Г. Тумашевой, в бара-бинско-татарском встречаются нисходящие дифтонги, в качестве неслогообразующего элемента которых выступают полугласные и , у , у , ( w ): ау , 9Y , ыу , аи > эй > ыи > iu > ои , еи , уи . Х. Х. Салимов на основании экспериментально-фонетических данных выделяет в языке ба-рабинцев 11 гласных фонем: [а], [а (е)], [о], [е], [о], [е], [i], [ы], [и], [у], [y] [1984. С. 17].
В 2003 г. была опубликована статья коллектива авторов, подготовленная по результатам полевых исследований языка барабинских татар, проживающих в дер. Новокурупкаевка Ба-рабинского района и ауле Тармакуль Чановского района Новосибирской области [Уртегешев и др., 2003. С. 78–106]. По результатам слухового анализа записанных материалов авторы зафиксировали 33 гласных звука: 10 кратких монофтонгов – а , э , е , ы , i , и , о , ӧ , у , ӱ , 6 долгих монофтонгов – а: , э: , е: , и: , о: , у: (для узких гласных ы , i , ӱ и широкого ӧ долгих коррелятов не зафиксировано), 5 фарингализованных монофтонгов – аъ: , эъ , еъ , иъ , уъ (фарингализован-ных соответствий гласных ы , i , о , ӧ , ӱ не выявлено), 5 дифтонгов – ау , а:у , иу , ои , ӱу , а также 7 прерывистых гласных, артикулируемых с ларингальной вставкой между компонентами сложного звука (обозначен надстрочным знаком «’» между графемами) [Уртегешев, 2006; 2012; 2016]: 3 прерывистых монофтонга полного образования, относительно однородных по звучанию, – а’а , а:’а , и’и , и 4 прерывистых дифтонга неполного образования – ы’ыу , и’ы , о:’ы , у’а . При этом фарингализованные и прерывистые гласные реализуются на уровне аллофонов – комбинаторных или факультативных.
Результаты лингвистического анализа вокальных сегментов, выявленных аудитивно, позволили Т. Р. Рыжиковой выделить в языке барабинских татар 8 гласных фонем-монофтонгов: а [л], а/е [э], о [ о ], о [ о ], у [ v ], у [ y ], и [ i ], ы [ъ]; статус дифтонгов и дифтонгоидов нуждается, по мнению Т. Р. Рыжиковой, в дальнейшей верификации. Интерпретация предшествующими исследователями звуков о, о, е, i в качестве самостоятельных фонем не получила подтверждения [2007. С. 171].
В чулымско-тюркском языке (среднечулымский диалект) Р. М. Бирюкович выделяет 14 гласных фонем: 8 кратких – [а], [о], [ы], [у], [ä (е)], [ӧ], [и], [ӱ], и 6 долгих [а:], [о:], [е:], [ӧ:], [и:], [ӱ:] [1979. С. 6–55]. В результате слухового анализа аудиозаписей, полученных в 1970-е гг. по среднечулымскому диалекту, Н. С. Уртегешев выявил фарингализованные гласные различного типа, а также прерывистые звуки. По его мнению, «…прерывистость гласного – первый этап в развитии вторичного долгого гласного. Второй этап – это переход в ровную фарингализацию, например: о’ол - WOOD - ?oYol => ооъл - orD - o:4 / WorD - ?o:4 -‘парень’, ‘мальчик’; сеек - a6bcW - sVek => сееък - ^B^ - s^e:5^ - ‘комар’. Следующий, третий этап - переход в чистую долготу, и завершающий этап (четвертый) - краткость. Последние два этапа в чулымском языке на рассматриваемом материале зафиксированы не были, но их можно наблюдать в говорах по другим сибирским тюркским языкам» [2016]. Данное наблюдение позволяет заключить, что в чулымско-тюркском языке прерывистость и фарингализованность гласных сосуществуют в едином временном пространстве на правах факультативных аллофонов долгих фонем.
Специфика тувинского вокализма на фоне других южносибирских тюркских языков определяется как количественным составом инвентаря гласных фонем, так и особенностями системно-структурной организации. По мнению А. А. Пальмбаха и Ф. Г. Исхакова, в тувинском языке функционируют 24 фонемы: кроме 8 «чистых» гласных нормальной долготы - а , э ( е ), о , е, у , у , ы , и , и 8 «обыкновенных» долгих гласных - аа , ээ ( ее ), оо , ее, уу , уу , ыы , ии , авторы впервые выделили 8 фарингализованных полудолгих гласных с гортанным отступом - аъ , эъ , оъ , еъ , уъ , уъ , ыъ , иъ [Пальмбах, 1955; Исхаков, 1957; Исхаков, Пальмбах, 1961].
К. А. Бичелдей, обобщив результаты инструментального исследования систем гласных фонем, констатировал в литературном тувинском языке, а также в тувинских диалектах и говорах 8 кратких [а, м , с, у , г , А , И , з ], 8 долгих [а:, м :, с:, у :, г :, А :, И :, з :], 8 фарингализованных [а л , мл , У, ул , 0, Ал , И", y" ] и 8 долгих назализованных вокальных единиц [а:, М :, C:, У :, Г :, А :, И :, З :], увеличив, таким образом, инвентарь гласных до 32 фонем. Исключение составляют говоры II и III типов юговосточной группы диалектов, не имеющие фарин-гализации и назализации в фонематическом статусе [1979; 1984; 2001а; 2001б; 2001в. С. 21].
Не все тувиноведы разделяют точку зрения К. А. Бичелдея: отмечая наличие в языке кратких и долгих назализованных гласных, исследователи не рассматривают их в качестве самостоятельных фонем, трактуя назализованные вокальные компоненты слова либо как диалектную речевую особенность, либо как обусловленное фонетическим контекстом варьирование - позиционно-комбинаторного или факультативного характера [Дамбыра, 2005. С. 189].
Диалекты и говоры тувинского языка подразделяются на 3 группы, отличающиеся наличием или отсутствием в системе назализованных и фарингализованных гласных единиц.
В 1-ю группу входят тувинские идиомы, в которых функционирует максимально полный набор вокальных фонологических единиц, включающий 32 фонемы: 16 «чистых» (нефарин-гализованных и неназализованных) фонем - 8 кратких и 8 долгих; 8 фарингализованных и 8 назализованных долгих. Эта группа представлена говорами центрального, юговосточного (говоры I типа) и северовосточного диалектов. Говоры 2-й группы имеют вокализм, включающий 24 единицы: в них нет назализованных гласных фонем. Сюда относятся пий-хемский - северный говор центрального диалекта, тандинский говор юговосточного диалекта и переходный (смешанный) каа-хемский говор. В 3-ю группу входят говоры II и III типов юговосточного диалекта, носителями которых являются монголоязычные тувинцы с несвойственными для них фарингализацией и назализацией гласных звуков. Вокальные инвентари в этих идиомах включают минимальное для тувинского языка количество единиц - 8 кратких и 8 долгих «чистых» фонем [Бичелдей, 2001б. С. 142; Дамбыра, 2005. С. 73-74].
В каа-хемском говоре тувинского языка И. Д. Дамбыра выделила 24 гласные фонемы: 8 кратких - а [л а ], ы [х а ], о [о ^ ], у [оч /о ^ ], э [Х а ], и [Ъ а ], е [с а ], у [о а ], 8 долгих - аа [лу], ыы [ху], оо [оу], уу [оч :/оу], ээ [Х а :], ии [Ъ а :], ее [су], уу [о а :], 8 фарингализованных - аъ [л“:], ыъ [Ъ а 1], оъ [ Ц^ :], уъ [о а :], эъ [х ^ :], иъ [I у/ Ъ а :], еъ [ ча :], уъ [0у]. Назализация в качестве фонематического признака гласных в каа-хемском говоре не зафиксирована, отмечены лишь факультативное или позиционно-комбинаторно обусловленное назализованное произношение гласных аа « лу /л 3 :», «лу», ии «Ъ а :», уу «о а :», ыъ «ъ у», оъ «о“ у /о ~э :» [2005. С. 189, 196].
Глубокое и детальное описание вокализма языка тофов проведено В. И. Рассадиным. Реестр гласных фонем включает 30 единиц: 10 чистых кратких – [а], [о], [у], [ы], [э], [ө], [ү], [и], [i], [ə], 10 соответствующих им по качеству долгих – [аа], [оо], [уу], [ыы], [ээ], [өө], [үү], [ии], [ii], [əə] и 10 фарингализованных кратких единиц инвентаря – [аъ], [оъ], [уъ], [ыъ], [эъ], [өъ], [үъ], [иъ], [iъ], [əъ]. Релевантными признаками в системе являются артикуляторный ряд, степень подъема, огубление, фарингализация и длительность; факультативная назализация долгих гласных носит оттенковый характер [2014. С. 11–16].
Представленная система симметрична и последовательна. Некоторая ее незавершенность проявляется, по-видимому, в не до конца сформировавшемся статусе звуков типа ə , əə и əъ в качестве реализаций самостоятельных фонем: при перечислении коррелятов гласных фонем указан лишь долгий əə как вариант долгого ээ , звуки əə и əъ не отмечены. Кроме того, при описании гласных мягкого ряда фонемы [ə], [əə] и [əъ] не упоминаются вовсе [Там же. С. 15, 18–19]. В ряде случаев реализации «ə» и «əə» квалифицируются как обязательные варианты фонем [э] и [ээ] соответственно. На наш взгляд, трактовка звуков ə и əə в качестве манифестаций самостоятельных фонологических единиц является основанием для констатации в указанных примерах чередования фонем [э] ~ [ə] и [ээ] ~ [əə] в определенном фонетическом контексте.
Результаты сопоставительного анализа гласных в языках и диалектах алтае-саянского этноареала свидетельствуют о принципиальном сходстве инвентарей вокальных фонем, тяготеющих к классической тюркской восьмерке кратких гласных, выделенной В. В. Радловым на материале большого числа тюркских языков [Radloff, 1882]. В рассматриваемых идиомах выделяется от 8 до 32 гласных фонем-монофтонгов.
В большинстве рассматриваемых языков, диалектов и говоров вокальные фонологические системы включают от 14 до 16 так называемых чистых монофонических фонем, не осложненных дополнительной окраской; из них 8 кратких, остальные – долгие.
Симметричные системы из 16 фонем, включающие 8 кратких единиц и 8 соответствующих долгих, зафиксированы в алтайском литературном языке М. Ч. Чумакаевой, в улаганском говоре теленгитского диалекта Н. А. Кучигашевой, в говорах тубинского языка – чойском Г. А. Петькиным и М. Ч. Чумакаевой, турочакском – С. Б. Сарбашевой, в мрасском диалекте шорского языка – И. П. Бородкиной.
Инвентарь фонем сагайского диалекта хакасского языка, по данным Г. В. Кыштымовой, также включает 16 гласных единиц-монофтонгов, но его специфику составляет несимметричность субсистем: краткий вокализм содержит 9 фонем, долгий – 7. В качинском же диалекте хакасского языка реестр гласных фонем состоит из 17 единиц: 9 кратких и 8 долгих. В обоих диалектах увеличение числа единиц инвентаря произошло за счет фонологизации краткого гласного i , не имеющего долгого коррелята в обоих говорах; в качинском, кроме того, нет мягкорядной широкой (этимологически узкой) огубленной фонемы ӱӱ .
Асимметричная вокальная система, состоящая из 16 фонем-монофтонгов, представлена, по данным Н. С. Уртегешева и др., в языке барабинских татар, проживающих в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области: инвентарь фонем включает 10 кратких единиц – дополнительно к традиционной восьмерке гласных отмечаются две мягкорядные фонемы э и i , и 6 долгих; узкие ы , i , ӱ и широкий ӧ долгих соответствий не имеют.
Близок к хакасскому и барабинско-татарскому (в интерпретации Н. С. Уртегешева и др.) теленгитский вокализм по Г. Ф. Бабушкину, выделившему 17 гласных фонем, в том числе и краткую фонему i . В отличие от Г. Ф. Бабушкина, Н. Д. Алмадакова, зафиксировавшая 18 фонем-монофтонгов – 9 кратких и 9 соответствующих им по качеству долгих гласных, не выявила в реестре фонемы i , но выявила дополнительно две широкие мягкорядные единицы – краткую ä и долгий коррелят ää .
В ряде идиомов исследователи зафиксировали 15 гласных фонем: в онгудайском говоре диалекта алтай-кижи А. А. Шалданова, в чуйском говоре теленгитского диалекта А. К. Бидинова, в бачатско-телеутском Г. Г. Фисакова и Н. В. Гаврилин отметили отсутствие долгого коррелята узкой неогубленной твердорядной фонемы ы ; в чалканском же В. Н. Кокорин не выявил долгой узкой неогубленной мягкорядной фонемы ии .
К числу систем с асимметричным соотношением краткого и долгого вокализма, представленного 14 единицами, относятся кумандинский язык (по данным автора статьи), улаганский говор теленгитского диалекта (по материалам С. И. Машталира), а также чулымско-тюркский (по записям Р. М. Бирюкович), в которых не до конца сформировались в качестве самостоятельных долгих единиц узкие неогубленные ыы и ии – инвентари включают по 8 кратких и 6 долгих фонем.
Максимальное количество гласных фонем-монофтонгов констатируется в тюркских языках байкало-саянского этноареала – тувинском и тофском. Реестр вокальных фонологических единиц тувинского языка, составленный Ф. Г. Исхаковым и А. А. Пальмбахом, включает 24 единицы: 8 кратких, 8 долгих и 8 фарингализованных. Аналогичная система зафиксирована И. Д. Дамбыра в каа-хемском говоре тувинского языка. По мнению К. А. Би-челдея, инвентарь тувинских гласных фонем необходимо дополнить классом из 8 назализованных смыслоразличительных единиц, увеличив тем самым число фонем до 32.
В тофаларском (тофском) языке вокальный инвентарь, состоящий из 30 фонем, разбит В. И. Рассадиным на три кластера (кратких, долгих и фарингализованных единиц) по 10 коррелирующих фонем в каждом. Увеличение числа кратких фонем до 10 по сравнению с традиционной для тюркских языков восьмеркой гласных произошло за счет включения в систему двух дополнительных мягкорядных фонем – [i] и [ə], аналогично барабинско-татарскому, где выделяются соответствия двух указанных фонем [Уртегешев и др., 2003], а также хакасскому [Кыштымова, 2001] и теленгитскому [Бабушкин, 1966], для которых отмечена фонема i .
При анализе инвентарей гласных фонем в южносибирских тюркских языках обращает на себя внимание симметричность байкало-саянских вокальных систем: каждый кластер включает равное количество качественно коррелирующих единиц.
Особое место занимает в описаниях исследователей вокализм языка барабинских татар: большинство авторов не фиксируют в нем долгих гласных, возможно, вслед за В. В. Рад-ловым, выделившим лишь 8 кратких единиц. Д. Г. Тумашева и Л. В. Дмитриева выявляют 12 кратких фонем, Х. Х. Салимов – 11, Т. Р. Рыжикова – 8 кратких единиц. В упоминавшемся выше исследовании звуковой системы барабинско-татарского языка, выполненном коллективом авторов [Уртегешев и др., 2003], предлагается иная точка зрения, в соответствии с которой в языке барабинцев, как и в других тюркских языках Южно-Сибирского региона, функционирует система гласных фонем, включающая, наряду с кратким, и долгий вокализм.
В соответствии с положением Дж. Мак-Уортера о том, что структурная детализация является одним из показателей системной (парадигматической) сложности [McWhorter, 2007], а также исходя из постулата Дж. Николз о том, что сложность сводится к количеству элементов в системе [Nichols, 2009] – в нашем случае это число гласных фонем-монофтонгов, необходимых для порождения поверхностных форм, можно построить следующую иерархию сопоставляемых тюркских языков в порядке нарастания степени сложности вокальных систем (с учетом их интерпретации различными авторами):
-
• барабинско-татарский (по В. В. Радлову, Т. Р. Рыжиковой – 8 фонем; Х. Х. Салимову – 11 фонем; Д. Г. Тумашевой, Л. В. Дмитриевой – 12 фонем) / теленгитский улаганский (по С. И. Машталиру), кумандинский, чулымско-тюркский (по 14 фонем) / алтайский онгу-дайский, теленгитский чуйский (по А. К. Бидиновой), бачатско-телеутский, чалканский (по 15 фонем) / алтайский литературный, тубинский чойский, тубинский турочакский, хакасский сагайский, шорский мрасский, барабинско-татарский (по Н. С. Уртегешеву и др.; по 16 фонем) / хакасский качинский (17 фонем) / теленгитский улаганский (по Н. Д. Ал-мадаковой; 18 фонем) // тувинский (по Ф. Г. Исхакову, А. А. Пальмбаху), каа-хемский тувинский (по 24 фонемы) / тофский (30 фонем) / тувинский (по К. А. Бичелдею; 32 фонемы).
Представленная последовательность южносибирских тюркских языков и диалектов, составленная по степени возрастания количества гласных фонем-монофтонгов в их инвентарях, может быть разделена на две условные группы идиомов – байкало-алтайскую и байкалосаянскую.
К первой группе относятся языки и диалекты, вокальные системы которых имеют инвентари фонем, включающие от 14 до 18 единиц. Это идиомы южного и северного Алтая (алтайский, теленгитский, телеутский, кумандинский, чалканский, тубинский), Алтае-Саянского нагорья (шорский, хакасский), а также язык чулымских тюрок Томской области и язык бара-бинских татар, проживающих на территории Барабинской низменности Западно-Сибирской равнины. Неоднозначность представленных выше научных интерпретаций барабинско-та-тарского вокализма может быть объяснена переходным характером языка, сформировавшегося на территории Сибири и включенного в свойственные южносибирским тюркским языкам процессы трансформаций, но, с другой стороны, испытывающего через казанских татар-переселенцев сильное влияние татарского литературного языка.
Ко второй группе относятся языки байкало-саянского этноареала – тувинский и тофский, реестры вокальных фонем которых насчитывают от 24 до 32 единиц.
Таким образом, на основании простого поверхностного подсчета количества элементов, из которых состоит система [Miestamo, 2008] (в нашем случае это гласные фонемы-монофтонги), наиболее высокой степенью абсолютной объективной сложности характеризуются тувинский и тофский языки, наименьшей – барабинско-татарский (в интерпретации В. В. Радлова, Т. Р. Рыжиковой, Х. Х. Салимова, Д. Г. Тумашевой и Л. В. Дмитриевой). Если же язык барабинцев исключить из рассмотрения, то наименее сложными следует считать ку-мандинский, чулымско-тюркский и теленгитский улаганский (по С. И. Машталиру), вокальные системы которых представлены 14 единицами (узкие мягкорядные неогубленные краткие фонемы ы и и не имеют долгих коррелятов).
Как отмечалось выше, в инвентарях фонем некоторых языков исследователи наряду с монофтонгами констатировали дифтонги: в барабинско-татарском Д. Г. Тумашева и Л. В. Дмитриева выделили 10 однофонемных сочетаний двух гласных звуков, Н. С. Уртегешев и др. в языке барабинцев Чановского и Барабинского районов Новосибирской области определили 5 дифтонгов, в турочакском говоре языка тубинцев С. Б. Сарбашева выявила 3 дифтонга, в улаганском говоре языка теленгитов Н. Д. Алмадакова зафиксировала 5 дифтонгов.
Функционирование в системе вокализма дифтонгов дополнительно к фонемам-монофтонгам, безусловно, свидетельствует о более высокой степени языковой сложности и является основанием для пересмотра выявленной выше иерархии южносибирских тюркских идиомов, основанной на оценке количественных показателей монофтонгических единиц:
-
• теленгитский улаганский (по С. И. Машталиру), кумандинский, чулымско-тюркский (по 14 фонем) / алтайский онгудайский, теленгитский чуйский (по А. К. Бидиновой), бачат-ско-телеутский, чалканский (по 15 фонем) / алтайский литературный, тубинский чойский, хакасский сагайский, шорский мрасский (по 16 фонем) / хакасский качинский (17 фонем);
-
• тубинский турочакский (по С. Б. Сарбашевой – 19 фонем: 16 монофтонгов и 3 дифтонга) / барабинско-татарский (по Н. С. Уртегешеву и др. – 21 фонема: 16 фонем-монофтонгов и 5 дифтонгов) / барабинско-татарский (по Д. Г. Тумашевой, Л. В. Дмитриевой – 22 фонемы: 12 монофтонгов и 10 дифтонгов) / теленгитский улаганский (по Н. Д. Алмадаковой – 23 фонемы: 18 фонем-монофтонгов и 5 дифтонгов);
-
• тувинский (по Ф. Г. Исхакову, А. А. Пальмбаху), каа-хемский тувинский (по 24 фонемы) / тофский (30 фонем) / тувинский (по К. А. Бичелдею – 32 фонемы).
Иерархия языковой сложности, выстроенная с учетом функционирования в системе гласных не только фонем-монофтонгов, но и фонем-дифтонгов, дает основание для выделения трех групп идиомов: в первую группу входят языки и диалекты, вокальные инвентари которых представлены лишь фонемами-монофтонгами (от 14 до 17 фонем); во вторую – языки и диалекты, вокальные инвентари которых включают как монофтонги, так и дифтонги (общее число фонем от 19 до 23 фонем); в третью группу – идиомы, имеющие вокализм, представленный только фонемами-монофтонгами, – «чистыми» и фаринга-лизованными, а также назализованными (от 24 до 32 единиц).
В первой группе – идиомы Алтая (кроме тубинского турочакского и теленгитского ула-ганского (по Н. Д. Алмадаковой)), хакасский и шорский; во второй – тубинский турочакский, барабинско-татарский и теленгитский улаганский (по Н. Д. Алмадаковой); в третьей языки байкало-саянского этноареала – тувинский и тофский.
Таким образом, языки второй группы (тубинский турочакский, барабинско-татарский и теленгитский улаганский) занимают промежуточное положение между языками с наименьшей степенью сложности – большинство идиомов Алтая, хакасский и шорский, с одной стороны, и языками с максимальной степенью сложности – тувинским и тофским, с другой.
Истоки более высокой степени сложности языка туба по сравнению с большинством других идиомов Алтая следует искать в этногенезе тубинцев: общее с тувинцами и карагасами (тофаларами) самоназвание туба / тува / тофа имеют роды и племена, входящие в состав алтайского и хакасского народов. Все эти этнические группы смешанного характера входили в большой племенной союз Туба и усвоили язык, близкий к древнеогузскому и древнеуйгурскому [Баскаков, 1969. С. 317].
Что касается языка теленгитов, то «…территориальная близость теленгитов и тубаларов отразилась на том, что язык теленгитов-чолушманцев находит общие черты с языком туба-ларов на фонетическом уровне, например, наличием дифтонгов. …На взаимосвязи предков улаганских теленгитов и тувинцев указывают топонимы, происхождение которых сами те-ленгиты связывают с… обитанием на этой территории тувинцев» [Алмадакова, 2016. С. 20]. О генетической близости теленгитов и тувинцев свидетельствуют краниологические данные [Тур, Тишкин, 2001].
Тувинская и тофская вокальные системы, структурируемые не только оппозицией по квантитативным параметрам, но и включающие единицы, маркированные признаками фарингализованности, а также назализованности, и имеющие наибольшее количество фонем, характеризуются максимальной для тюркских языков Южной Сибири степенью парадигматической сложности.
Распределение южносибирских тюркских языков по группам, характеризующимся различной степенью парадигматической сложности в соответствии с количественной оценкой элементов системы, детерминировано спецификой структурно-таксономической организации вокальных систем, алгоритмами реализации взаимосвязей и взаимообусловленностей их единиц.
Список литературы Характеристика вокальных систем южно-сибирских тюркских языков по параметрам объективной сложности
- Алмадакова Н. Д. Язык теленгитов: очерки по фонетике и морфологии в сопоставительном аспекте. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2014. 204 с.
- Бабушкин Г. Ф. О некоторых фонетических и морфологических особенностях теленгитского диалекта алтайского языка//Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку, 1966. Т. 4. С. 167-177.
- Бабушкин Г. Ф., Донидзе Г. И. Шорский язык//Языки народов СССР. М.: Наука, 1966. Т. 2: Тюркские языки. С. 467-481.
- Баскаков Н. А. Очерк грамматики ойротского языка//Ойротско-русский словарь/Сост. Н. А. Баскаков, Т. М. Тощакова. М., 1947. С. 219-312.
- Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969. 383 с.
- Бердичевский А. Языковая сложность (Language Complexity)//Вопр. языкознания. 2012. № 5. С. 101-124.
- Бидинова А. К. Теленгитский диалект в системе южных диалектов алтайского языка (на материале чуйского говора): Магистерская работа. Новосибирск, 2013.
- Бирюкович Р. М. Звуковой строй чулымско-тюркского языка. М., 1979. 202 с.
- Бичелдей К. А. Назализованные гласные современного тувинского языка//Исследования звуковых систем сибирских языков. Новосибирск, 1979. С. 29-34.
- Бичелдей К. А. Назализованные гласные в тувинском языке и их соответствия в тюркских языках//Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 35-39.
- Бичелдей К. А. Фарингализация в тувинском языке. М., 2001а. 289 с.
- Бичелдей К. А. Звуковой строй диалектов тувинского языка. М., 2001б. 156 с.
- Бичелдей К. А. Теоретические проблемы фонетики современного тувинского языка: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2001в. 86 с.
- Бородкина И. П. Состав гласных в мрасском диалекте шорского языка//Языки народов Сибири. Кемерово, 1977. С. 11-20.
- Гаврилин Н. В. Реестр гласных фонем в языке бачатских телеутов//Фонетика языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 67-73.
- Гаврилин Н. В. Система гласных фонем в языке бачатских телеутов (по экспериментальным данным): Автореф. дис.. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1987. 18 с.
- Гаврилин Н. В. Дистрибуция гласных в языке бачатских телеутов//Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1988. С. 53-62.
- Дамбыра И. Д. Вокализм каа-хемского говора в сопоставлении с другими говорами и диалектами тувинского языка. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 223 с.
- Дмитриева Л. В. Язык барабинских татар (материалы и исследования). Л., 1981. 225 с.
- Дыренкова Н. П. Грамматика шорского языка. М.; Л., 1941. 307 с.
- Исхаков Ф. Г. Очерк по фонетике. Тувинский язык. Материалы для научной грамматики. М., 1957. 123 с.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., 1961. 472 с.
- Кокорин В. Н. Вокализм в языке чалканцев (по экспериментальным данным): Автореф. дис.. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1982. 20 с.
- Кучигашева Н. А. Теленгитский диалект алтайского языка//Учен. зап. Горно-Алтайского НИИИЯЛ. Горно-Алтайск, 1961. Вып. 4. С. 57-72.
- Кыштымова Г. В. Состав и системы гласных фонем сагайского и качинского диалектов хакасского языка. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 152 с.
- Машталир С. И. Состав гласных фонем в теленгитском диалекте алтайского языка//Фонетика языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 74-78.
- Николина Е. В., Озонова А. А., Кокошникова О. Ю. и др. Социолингвистическая ситуация у тубаларов и чалканцев//Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2003. Вып. 7: Экспедиционные материалы. Ч. 1. С. 3-9.
- Пальмбах А. А. Долгие и полудолгие гласные тувинского языка//Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1955. Ч. 1. С. 175-181.
- Петькин Г. А., Чумакаева М. Ч. Количественные характеристики гласных тубинского диалекта алтайского языка в моносиллабах//Звуковые системы сибирских языков. Новосибирск, 1989. С. 26-45.
- Рассадин В. И. Современный тофаларский язык и его место в системе тюркских языков. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2014. 218 с.
- Рыжикова Т. Р. Изучение звуковой системы языка барабинских татар: к проблеме выделения фонем//Тумашевские чтения: Актуальные проблемы тюркологии: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию акад. Д. Г. Тумашевой. 19 октября 2006 г. Тюмень, 2007. С. 168-173.
- Салимов Х. Х. Вокализм барабинского диалекта татарского языка (экспериментально-фонетическое наблюдение)//Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 11-16.
- Сарбашева С. Б. Фонологическая система туба-диалекта алтайского языка (в сопоставительном аспекте). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. 242 с.
- Селютина И. Я. Кумандинский вокализм. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 185 с.
- Тазранова А. Р. Некоторые вопросы теленгитского диалекта алтайского языка//Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: Материалы XII Регион. конф. Уфа, 2012. С. 153-155.
- Тощакова Т. М. Грамматика ойротского языка. Новосибирск: ОГИЗ, 1938. 62 с.
- Тумашева Д. Г. Язык сибирских татар (часть вторая). Казань, 1968. 183 с.
- Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1969. 50 с.
- Тур С. С., Тишкин А. А. К вопросу о происхождении северных алтайцев и шорцев//Интеграция археологических и этнографических исследований. Нальчик; Омск: Изд-во ОмГПУ, 2001. С. 185-188.
- Уртегешев Н. С. Длительность гласных в шорском языке//Proceedings of the 73th Seoul International Altaistic Conference. Perspectives on the Studies of Endangered Manchu-Tungus. Seoul National University, Sept. 24-27, 2006. Seoul, 2006. P. 265-273.
- Уртегешев Н. С. Шорский язык: фарингализация гласных//Материалы междун. науч. конф. «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая история и фольклор (к 100-летию со дня рождения В. М. Наделяева), Кызыл, 20-23 мая 2012 г. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2012. С. 41-43.
- Уртегешев Н. С. Фонетика чулымско-тюркского языка по записям 70-х годов ХХ века//Урало-Алтайские исследования. М., 2016. № 1 (20). С. 105-110.
- Уртегешев Н. С., Селютина И. Я., Рыжикова Т. Р., Вильданов А. З. Язык барабинских татар//Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2003. Вып. 10: Экспедиционные материалы. С. 78-106.
- Федина Н. Н. Фонетика чалканского языка//Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб., 2008. С. 318-328.
- Фисакова Г. Г. Состав гласных фонем в языке бачатских телеутов//Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 30-34.
- Фисакова Г. Г. Долгие гласные в языке бачатских телеутов//Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986. С. 27-31.
- Чумакаев А. Э. Исследования по теленгитскому диалекту алтайского языка//Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: Материалы XV Всерос. науч. конф. Уфа, 2015. С. 323-326.
- Чумакаева М. Ч. Фонемный состав алтайского литературного языка//Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1976. С. 61-70.
- Шалданова А. А. Вокализм диалекта алтай-кижи в сопоставительном аспекте. Новосибирск: ИД «Сова», 2007. 280 с.
- Dahl Ö. The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity. Amsterdam, 2004. 333 р.
- Kusters W. Linguistic Complexity: The Influence of Social Change on Verbal Inflection. Utrecht, 2003. 411 р.
- Language Complexity: Typology, Contact, Change/Eds. M. Miestamo, K. Sinnemäki, F. Karlsson. Amsterdam, 2008. xiv, 356 р.
- Language Complexity as an Evolving Variable/Eds. G. Sampson, D. Gil, P. Trudgill. Oxford, 2009. xiii, 309 p.
- Lupyan G., Dale R. Language structure is partly determined by social structure//PLoS One. 2010. Vol. 5. No 1.
- DOI: 10.1371/journal.pone.0008559
- McWhorter J. The world's simplest grammars are creole grammars//Linguistic Typology. 2001. Vol. 5, iss. 2-3. P. 213-310.
- McWhorter J. Language Interrupted: Signs of Non-Native Acquisition in Standard Language Grammars. Oxford: Univ. Press, 2007. 304 p.
- Miestamo М. Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective//Language Complexity: Typology, Contact, Change. Amsterdam, 2008. Р. 23-41.
- Nichols J. Linguistic complexity: A comprehensive definition and survey//Language Complexi ty as an Evolving Variable. Oxford, 2009. Р. 110-125.
- Radloff W. Phonetik der Nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882. 322 S.
- Sampson G. A linguistic axiom challenged//Language complexity as an evolving variable/Eds. D. Sampson, P. Gil Trudgill. Oxford, 2009. Р. 1-18.
- Shosted R. Correlating complexity: a typological approach//Linguistic Typology. 2006. Vol. 10. P. 1-40.
- Trudgill P. Sociolinguistic Typology: Social Determinants of Linguistic Complexity. Oxford, 2011. xxxviii, 236 p.
- Wray A., Grace G. The consequences of talking to strangers: Evolutionary corollaries of sociolinguistic influences on linguistic form//Lingua. 2007. Vol. 117. No 3. Р. 543-578.