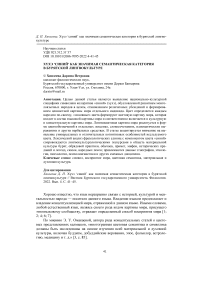Ххэ ‘синий’ как значимая семантическая категория в бурятской лингвокультуре
Автор: Хинзеева Дарима Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является выявление национально-культурной специфики символики колоратива «синий» (хүхэ), обусловленной развитием монголоязычных народов в целом, становлением религиозных убеждений и формированием ценностной картины мира отдельного индивида. Цвет определяется каждым народом по-своему, «основные» цвета формируют цветовую картину мира, которая входит в состав языковой картины мира и соответственно включается в культурную и концептуальную картины мира. Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений в отдельных лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях и других вербальных средствах. В статье акцентируется внимание на выявление универсальных и отличительных когнитивных особенностей исследуемого цвета. Лексический анализ фразеологических единиц с компонентом цвета «синий» сопровождается лингвокультурологическими экскурсами в область материальной культуры бурят, обрядовой практики, обычаев, примет, мифов, исторических преданий и легенд, сказок, народных песен; привлекаются данные этнографии, этнологии, психологии, психолингвистики и других смежных дисциплин.
Символ, восприятие мира, цветовая семантика, материальная и духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/148325436
IDR: 148325436 | УДК: 821.512.31’37 | DOI: 10.18101/2686-7095-2022-4-41-45
Текст научной статьи Ххэ ‘синий’ как значимая семантическая категория в бурятской лингвокультуре
Хорошо известно, что язык неразрывно связан с историей, культурой и ментальностью народа — носителя данного языка. Владение языком предполагает и владение концептуализацией мира, отраженной в данном языке. Иными словами, любой естественный язык, являясь своего рода кодом картины мира, присущего этноязыковому сообществу, отражает определенный способ восприятия мира [1; 2; 4; 6; 7].
По мнению Э. У. Омакаевой, автора ряда концептуальных статей о цветовых представлениях калмыков, «многогранная цветовая семантика и символика должны быть исследованы на основе изучения всей материальной и духовной культуры, включая буддизм, добуддийские верования, эпос, фольклор, астрологию, медицину и т. д.» [3, с. 85].
В бурятоведении одной из первых работ, где затрагивались вопросы цвето-обозначения, является фундаментальное историко-лингвистическое исследование Ц. Б. Цыдендамбаева «Бурятские исторические хроники и родословные» [9], где ученый осуществил дифференциацию цветообозначений бурятского языка. В данной работе автор выделил две лексико-семантические группы цветообо-значения. К первой группе он относит прилагательные, обозначающие цвета и их оттенки, ко второй группе — названия мастей животных.
Видение мира в цвете является одним из наиболее сильных ощущений человека. Категория цветообозначения в рамках бурятской культуры представляется наиболее семантически нагруженной, а также является символообразующим средством, которым оформляются определенные социальные явления и их образное воплощение. Основной спектр цветов бурятами воспринимается в глубинной семантической взаимосвязи с окружающим миром: цветовую символику имеют стороны света, материальные предметы, эмоциональные состояния и нравственные понятия. С помощью цвета, своеобразного индикатора культуры, выражались эстетические, этические нормы, а также давалось указание на социальные, политические и этнические признаки в жизни бурят.
Символика хухэ унгэ «синего цвета» очень древняя и связана с небом, Вечно синим небом Хүхэ мүнхэ тэнгэри , «культ которого был распространен среди всех монголов» [3, с. 85], в том числе и у бурят, до принятия буддизма.
В мифологии бурят Небо ( Тэнгэри) — символ мужского начала. По мифологическим представлениям, вместе с женским божеством Необъятная Мать-Земля ( Yлгэн Дэлхэй-Эхэ ) они являлись первопредками всех живых существ во Вселенной.
Некоторые бурятские племена (булагаты, хонгодоры) считали своим тотемом Небесного синего пороза ( Буха ноён баабай ), сына небожителя Эсэгэ Мала-ан Тэнгрия . Племена же хори-бурят связаны с Небом через свою прародительницу Хун Шубуун — Лебедь. Согласно легенде, прекрасные небесные лебеди хун шубууд спускались на берег Байкала и превращались в девушек. Похитив одежду одной из них, молодой охотник ХориДой , сын БуряаДая женился на девушке, которая родила одиннадцать сыновей - родоначальников хоринских родов.
К голубой водной стихии относит себя племя эхиритов, прародителем которых считается Пестрая рыба налим Эреэн гутаар , которая вышла из береговой щели Байкала. По этому поводу они говорят: «Отец наш — пестрый Налим, береговая щель — Мать наша».
Таким образом, основные бурятские племена — хори, эхириты, булагаты, хонгодоры — усматривают в синем цвете ту субстанцию, которая опосредованно, через «небесных» Буха (Бык), Хун шубуун (Лебедь) и Эреэн гутаар (Пестрый налим), дала им жизнь.
У монголоязычных народов, в том числе и у бурят, новорожденные дети имеют синее пятно на крестце хүхэ толбо . Буряты относительно этого пятна говорят: заяашань альгадаа, т. е. при рождении «ангел-хранитель шлепнул (помог) родиться».
На физиологическом уровне символика данного цвета у бурят ассоциируется также с небом, в частности в Бурятско-русском словаре зафиксировано: тэнгэриин XYXэ унгэ «синева неба», хухэ номин тэнгэри «лазурное небо». В кал- мыцком языке существует очень выразительная по глубине мысли и красоте пословица, в которой говорится о том, что душа девушки, должна быть такой же чистой, как чистый воздух на синем небе: кек тенгр ahapapн сэн, куукн кун сэдклэрн сэн «хорошо синее небо чистым воздухом, а девушка — душой».
Данное цветообозначение также ассоциируется с водной синью: х ухэ далай, хүхэ номин далай « синее или лазурное море », хүхэ нуур « голубое озеро ». Лед как твердое, застывшее состояние воды тоже ассоциируется с синим цветом: хүхэ мүльhэн «лед синеватого оттенка», вместе с тем это сочетание имеет значение «бесцветный, невыразительный, безжизненный (о глазах)».
Когда речь идет о внешнем виде человека, для экспликации его цвета лица, губ в определенных обстоятельствах буряты говорят хухэ бала « синяк», хухэ бала болошоhон «весь в синяках» , о человеке, у которого синяк на лице. У замерзшего человека губы выглядят синими: даарашаhан хүхэ урал « посиневшие (или синие) от холода губы ». Нездоровый человек выглядит бледным хухэ сагаан «бледный, помертвелый»: хухэ сагаан болоод унашоо «упала, став бледносиней», о девушке, упавшей в обморок. В монгольском же языке для усиления коннотации в значении «очень бледное» лицо употребляется лексема унс(эн) «пепел»: унс хех царай букв. «пепельно-синее лицо».
Сочетание хүхэ нюдэн «голубые глаза» у бурят имеет неодобрительную коннотацию, так о наемном работнике, который в общем-то работает «абы сделать», говорят: XYлhэншын нюдэн хухэ « у батрака глаза синие ».
Следует подчеркнуть, что в бурятском языке, как и в других монгольских языках, синий цвет используется тогда, когда речь идет о зеленом оттенке, например, для номинации:
-
1) молодой зеленой травы, листьев: хухэ ногоон « зеленая трава » букв . «синяя трава», хухэ нaбшahaн «зеленые листья», букв. «синие листья»;
-
2) сена, скошенного и убранного вовремя: хухэ Yбhэн «зеленое сено», букв. «синее сено», хүхэ hолоомо сабшаха «скашивать (хлеб) на солому», букв. «синюю солому косить»;
-
3) при экспликации масти животных данный цвет обозначает «сивый»: у бурят хухэ морин « сивая лошадь », у монголов хех бор морь « серый, темноватопепельный конь », у калмыков көк бор « сивый, серый (с темным оттенком) », букв. « синяя лошадь ».
В переносном значении у бурят цветообозначение хүхэ обычно выражает отрицательное качество чего-либо. Например, о долгой затянувшейся непогоде, весне: хүхэ бороо «сплошной (или затяжной, нудный) дождь», хүхэ зада «затянувшееся ненастье (о дождливой погоде или о продолжительном буране)», букв. «синее ненастье, непогода»; хүхэ хабар «серая весна», «тяжелая весна», букв. «синяя весна». В наших краях, как известно, климат суровый, и после долгой зимы люди с нетерпением ждут весны, чтобы снег быстрее сошел с почвы и дал возможность скоту выходить в поле, чтобы подбирать оставшееся с осени сено, солому. В этой связи в бурятском языке существует специальный глагол хоглохо в значении «доедать, собирать остатки кормов (о домашних животных)». В монгольском же языке существует словосочетание хөх өвөл «суровая зима», букв. «синяя зима».
Также синий цвет применяется при обозначении неважных продуктов питания: хүхэ мяхан «одно (без жира), постное мясо». О плохом чае буряты говорят: х үхэ сай « плохо забеленный чай », хүхэ борохон сай « жидкий чаек », букв. «синий чай». Плохой табак монголы называют хөх тамхи «низкий сорт табака», букв. «синий табак».
Употребляется в значении сплошь , очень сильно . Например, о затянувшемся смехе скажут с осуждением: х үхэ модон энеэдэн : «а) о ненормально продолжительном смехе, нездоровом хохоте»; б) в переносном значении «о вое шакалов», букв. «синий деревянный смех». В этой связи говорят: х үхэ модон болохо, хүхэ модоор тулаха «покатываться со смеху», букв. «стать синей палкой, опираться на синюю палку»; о сильном кашле: х үхэ ханяадан «сильный кашель», букв. «синий кашель». Хүхэ нойтон — это «сплошь (совсем) мокрый», букв. «синий мокрый». Об очень упрямом человеке отзываются: хүхэ нэтэрүү хүн «очень упрямый, назойливый человек», букв. «синий человек». Огромное вымя коровы в разговорной речи эксплицируется как хүхэ дэлэн «громадное вымя», букв. «синее вымя». Так как корова с большим выменем дает мало молока, поэтому вызывает осуждение.
О нудном, затянувшемся веселье, пьянке: хүхэ зугаа / хүхэ наадан «нудное веселье», букв. «синее веселье», хүхэ архидаан « пьянка », букв . «синяя пьянка», горький пьяница соответственно хүхэ архиншан «заядлый пьяница», букв. «синий пьяница». Томительное ожидание хүхэ хүлеэлгэн, букв «синее ожидание».
Следует сказать, что добуддийское верование оказало сильное влияние на положительную семантику синего цвета. Тогда как в буддизме синий цвет может ассоциироваться с гневом, яростью.
Бесспорным остается тот факт, что традиции и обычаи народа находят свое отражение в символике цветообозначений.
Подводя итог, мы приходим к выводу, что семантика синего цвета у монголоязычных народов неоднозначна, с одной стороны — это высокое, священное, возвышенное. С другой стороны — осуждающе-сочувственное, негативное. Будучи цветом неба и воды, синий цвет символизирует вечность, бесконечность не только в мировоззрении бурят, монголов, но и других народов. Он совмещает в себе какое-то противоречие — возбуждение и покой, вызывает ощущение холода и напоминает о прохладе.
Список литературы Ххэ ‘синий’ как значимая семантическая категория в бурятской лингвокультуре
- Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура. Познание. Москва: Русские словари, 1997. 412 с. Текст: непосредственный.
- Вяткина К. В. Очерки культуры быта бурят. Москва: Наука, 1969. 220 с. Текст: непосредственный.
- Омакаева Э. У. Цветовые представления калмыков сквозь призму типологии языков и типологии культур // Культурно-историческое взаимодействие русского языка и языков народов России: материалы всероссийской научно-практической конференции. Элиста, 2009. 224 с. (с. 84-88). Текст: непосредственный.
- Пюрбеев Г. Ц. Эпос "Джангар": культура и язык (этнолигвистические этюды). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993. 128 с. Текст: непосредственный.
- Рассадин В. И. Очерки по морфологии и словообразованию монгольских языков. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2008. 234 с. Текст: непосредственный.
- Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. Санкт- Петербург: Речь, 2004. 672 с. Текст: непосредственный.
- Фрумкина Р. М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика. Москва: Изд-во ИНИОН РАН, 1992. С. 33-41. Текст: непосредственный.
- Хинзеева Д. П. Цветообозначение в бурятском языке: когнитивный аспект исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Улан-Удэ, 2011. 27 с. Текст: непосредственный.
- Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Историко-лингвистическое исследование. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972. 664 с. Текст: непосредственный.
- Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1973. 804 с. Текст: непосредственный.