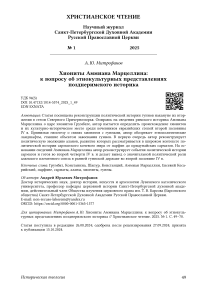Хиониты Аммиана Марцеллина: к вопросу об этнокультурных представлениях позднеримского историка
Автор: Митрофанов А.Ю.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реконструкции политической истории гуннов накануне их вторжения в степи Северного Причерноморья. Опираясь на сведения римского историка Аммиана Марцеллина о царе хионитов Грумбате, автор пытается определить происхождение хионитов и их культурно-историческое место среди кочевников евразийских степей второй половины IV в. Принимая гипотезу о связях хионитов с гуннами, автор обозревает этнополитические ландшафты, ставшие объектом завоевания гуннов. В первую очередь автор реконструирует политическую эволюцию аланов, развитие которых рассматривается в широком контексте политической истории сарматского кочевого мира от парфян до придунайских сарматов. На основании сведений Аммиана Марцеллина автор реконструирует события политической истории сарматов и готов во второй четверти IV в. и делает вывод о значительной политической роли аланского племенного союза в ранней гуннской державе во второй половине IV в.
Грумбат, констанина, шапур, констанций, аммиан марцеллин, евсевий кесарийский, парфяне, сарматы, аланы, хиониты, гунны
Короткий адрес: https://sciup.org/140309285
IDR: 140309285 | УДК: 94(3) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_49
Текст научной статьи Хиониты Аммиана Марцеллина: к вопросу об этнокультурных представлениях позднеримского историка
В 1903 г. выдающийся исследователь-востоковед и военный разведчик, генерального штаба полковник (впоследствии генерал от инфантерии) Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918), описывая свое путешествие по внутренним районам Афганистана и Каш-гарии [Ушаков, Федюк, 2012, 30–34], справедливо отмечал: «Историки-ориенталисты, основываясь на древнейших памятниках санскритской литературы и свидетельстве древних греческих писателей, полагают, что страна, называемая в настоящее время Кашгарией или Восточным Туркестаном, еще задолго до Рождества Христова была населена саками, народом арийского племени и, быть может, родоначальником нынешних славян и литовцев. Волна полудиких монгольских народов, двинувшихся из глубины Восточной Азии, захватила при своем движении на Запад и страну саков» [Корнилов, 1903, 1]. Современная археология и историческая этнография обогатили эту картину многочисленными открытиями, которые позволяют уточнить историю Великой Степи в античную эпоху. Факт культурного влияния восточно-иранских кочевников, прежде всего скифов, на формировавшуюся балто-славянскую языковую общность подтвержден лингвистами и сомнений не вызывает [Абаев, 1971, 10–13; Витчак, 2012, 115–130; Тохтасьев, 2005, 59–106; Тохтасьев, 2015, 426–439]. В результате борьбы саков и хунну во II в. до Р. Х. часть саков и тохаров вторглась в Бактрию и сокрушила эллинистическое Греко-Бактрийское царство, а хунну основали в Центральной Азии кочевую державу, став родоначальниками будущих европейских гуннов [Гумилев, 1998, 77–81; Барфилд, 2009, 76–145; Кычанов, 2010, 11–52]. Позднеримский историк 2-й пол. IV в. Аммиан Марцеллин сохранил в рассказе о средназиатских кочевых народах — парфянах и хио-нитах — элементы античной письменной традиции, позволяющей реконструировать некоторые аспекты этнокультурной истории среднеазиатских гуннов.
Аммиан Марцеллин, грек и солдат, стал для гуннов первооткрывателем, каким для скифов и савроматов был Геродот, а для парфян Аполлодор Артемитский. Благодаря перу или, правильнее сказать, каламу Аммиана гунны выступили на арену римской истории и сыграли на ней с хронологической точки зрения не очень продолжительную, но с точки зрения исторических последствий чрезвычайно яркую драму. Несмотря на важнейшую роль гуннов в событиях, связанных с трансформацией античного мира и генезисом средневековой цивилизации, фрагментарность письменных источников не позволяет нам составить целостное представление о ранней политической истории гуннов. В первую очередь это касается предыстории гуннских завоеваний и утверждения господства гуннов в степях Северного Причерноморья.
Как полагал Тимоти Барнс, сохранившаяся нумерация дошедших до нас книг «Деяний» Аммиана Марцеллина ошибочна, что обусловлено небрежностью средневековых переписчиков, не имевших в своем распоряжении утраченных книг этого произведения. Добавим, что за небрежностью переписчиков — средневековых монахов — могла скрываться конфессиональная тенденциозность: известно, что Аммиан Марцеллин был сторонником императора Юлиана Отступника (361-363) и недолюбливал первого христианского императора Константина Великого (306–337). Это обстоятельство, вероятно, и способствовало достаточно ранней утрате первых книг сочинения Аммиана Мар-целлина, в которых эпоха тетрархии и правление Константина описывались с точки зрения языческой партии. По мнению исследователя, Аммиан Марцеллин посвятил значительную часть утраченных книг своего сочинения (с 7-й по 12-ю) именно Константину Великому (306–337), а также (с 13-й по 18-ю) сыновьям Константина, прежде всего Констанцию II в период его правления в восточных провинциях (337–353). В таком случае первая из дошедших до нас книг произведения Аммиана в действительности является не 14-й, а 19-й [Barnes, 1998, 28]. Принимая гипотезу Тимоти Барнса, мы можем допустить, что в утраченной части своего труда Аммиан Марцеллин должен был уделить большое внимание подготовке Константина к войне с персами, а также первому этапу этой войны, которую вел его сын Констанций II. Вполне естественно предположить, что, рассказывая об этих событиях, Аммиан Марцеллин сообщил сведения, связанные с политической обстановкой, сложившейся вокруг Рима и Ирана в конце правления Константина: например, он должен был писать о сарматах, которые были серьезным противником как для Константина, так и для его младшего сына Константа. Тем самым, утраченная часть сочинения Аммиана Марцеллина могла содержать интересные подробности, имеющие отношение к ранней истории гуннов до их вторжения в южнорусские степи в 370-х гг. В настоящей статье мы попытаемся осуществить опыт реконструкции ранней политической истории гуннов, опираясь на сохранившиеся сообщения Аммиана Марцеллина о парфянах и хионитах, которые обычно непосредственно не связываются с европейскими гуннами.
Возможно, впервые Аммиан упоминает гуннов под именем хионитов в рассказе об осаде Амиды персидским шахом Шапуром II (309–379) в 359 г. В данном случае мы принимаем точку зрения, в соответствии с которой Аммиан Марцеллин подразумевал под хионитами гуннов, только в качестве рабочей гипотезы, ибо этническое происхождение исторических хионитов для нас сейчас не столь важно. Царь (rex) хионитов Грумбат принимал активное участие в боевых действиях на стороне персов (Amm. Marc. XVIII. 6. 22). Гибель хионитского царевича, сына Грумбата, от выстрела римской баллисты повлекла за собой схватку за его тело, которую историк сравнивает с боем за тело Патрокла, пышные похороны (Amm. Marc. XIX. 1.7-11), мщение хиони-тов и последующее истребление гарнизона Амиды и ее населения персами.
Присутствие Грумбата и хионитов в персидском войске, по-видимому, не было следствием случайного набора наемников в степном приграничье Сасанидско-го Ирана, но являлось важным элементом военно-политической системы, которую современные исследователи определяют как парфяно-сасанидскую конфедерацию. В частности, Парванех Пуршариати и Хьюн Джин Ким подчеркивают важнейшую роль парфяно-сасанидского континуитета в политической системе Сасанидского Ирана, где высшая парфянская аристократия (Карены, Сурены, Михраны, Испах-беды и т.д.) после битвы при Хормиздагане (224) сохранила свои домены, вассалов и политическое влияние, признав победу Арташира Папакана (224-240/241) над последним парфянским царем Артабаном V (IV) (216–227) [Pourshariati, 2008, 33–59; Hyun Jin Kim, 2013, 9–16]. Полуфеодальная структура раннего Сасанидского государства при всей условности этого термина могла способствовать сохранению парфянских традиций княжеского управления отдаленными территориями, которые признали верховную власть Арташира [Луконин, 1961, 5–24; Луконин, 1969, 27–49]. Значение парфянских социально-политических традиций в жизни Сасанидского Ирана трудно переоценить, несмотря на то что это значение чаще всего преуменьшалось старой историографией [Christensen, 1936, 79–91]. Союз Сасанидской династии с парфянской аристократией после свержения Аршакидов, вероятно, нашел отражение в двух легендах, вошедших в состав «Карнамака» — среднеперсидского текста VI в. Первая легенда сообщает о браке Арташира с Аршакидской принцессой, дочерью Артабана V, которая стала матерью Шапура I (240/241–271/272) (Чунакова, 1987, 77–78). В действительности дочь Артабана V не могла быть матерью Шапура I, родившегося задолго до Саса-нидского восстания, в котором Шапур принимал деятельное участие вместе с отцом. Однако подобная легенда весьма показательна как элемент Сасанидской придворной пропаганды, которая подчеркивала преемственность новой династии от парфянских царей. Вторая легенда повествует о чудесном спасении парфянской княжны, дочери Михрака, от репрессий Арташира и о женитьбе на этой княжне Шапура I. Парфянская княжна по легенде становится матерью Ормизда I (271/272–272/273) (Чунакова, 1987, 81–82). Несмотря на то что «Карнамак» в окончательном варианте сложился только в VI столетии, легенды о парфянских княжнах, ставших персидскими царицами, могут восходить к раннесасанидской эпохе и отражать современные ей социальнополитические реалии1. Военно-политические традиции парфянских царей, заключавшиеся, в частности, в сохранении устойчивых связей с кочевой сако-массагетской аристократией Средней Азии, были унаследованы Сасанидами [Луконин, 1969, 50–69; Дмитриев, 2008, 162–182; Мирзоев, 2016, 32–33].
Как справедливо отмечает Хьюн Джин Ким, для понимания ранней истории гуннов необходимо ясно представлять себе более широкий контекст, связанный с экспансией кочевников евразийских степей, которые были современниками азиатских хунну и европейских гуннов. Это понимание позволит реконструировать некоторые стороны жизни гуннов по аналогии с другими современными им кочевыми обществами, которые стали известны греко-римским географам и историкам значительно раньше гуннов. Знаменитый археолог К. Ф. Смирнов в свое время справедливо подчеркивал значение истории античных кочевников — савроматов и сарматов, для изучения кочевых обществ более позднего времени: «Изучение сарматов помогает разобраться во многих вопросах раннего Средневековья, особенно в вопросах происхождения ряда народов и их культуры в Средней Азии и Казахстане, в Поволжье, на Северном Кавказе и в Крыму» [Смирнов, 1964, 3]. В другом месте исследователь отмечал: «Сарматы в течение ряда веков господствовали в степях Восточной Европы и оказывали существенное влияние на общественно-политическую жизнь городов Северного Причерноморья. Значительная роль их в развитии военного дела древнего мира общеизвестна» [Смирнов, 1961, 6]. Действительно, история сарматских племен, прежде всего аланов, на завершающей стадии их развития непосредственным образом связана с историей гуннов и таких исторических преемников гуннов, как, например, авары и древние тюрки. В данной статье мы будем следовать этому принципу и попытаемся реконструировать некоторые события из ранней истории гуннов, опираясь на исторический опыт их предшественников.
Одним из хрестоматийных примеров создания античными кочевниками мировой империи стала Парфия. Основатель Парфянской державы полулегендарный Аршак и его брат Трдат были описаны историками, принадлежавшими к двум литературным традициям. Юстин (Помпей Трог), Страбон и в определенной степени Аммиан Марцеллин опираются на сведения, восходящие к Аполлодору Артемит-скому, который сообщал, что братья Аршак и Трдат были вождями кочевого масса-гетского племени дахов (апарнов). Византийские историки Зосим, Георгий Синкелл и патр. Фотий на основании утраченного сочинения Арриана описывают двух братьев как потомков Ахеменидского царя Артаксеркса, ставших предводителями восстания оседлого населения Парфии против македонского владычества [Nikonorov, 1998, 107–122; Балахванцев, 2009, 89–101; Балахванцев, 2015, 114–122]. Важно отметить, что Георгий Синкелл, живший в эпоху правления императрицы Ирины (780–802), и патр. Фотий, современник императоров Михаила III Пьяницы (842–867) и Василия I Македонянина (867-886), называют своим источником «Парфику» Арриана. Не исключено, что при Ирине Георгий Синкелл вывез сочинение Арриана вместе со своей библиотекой из завоеванной арабами Сирии в Константинополь. О существовании этой библиотеки писал известный немецкий византинист Пауль Шпек, который доказал, что часть сирийских документов Синкелла легла в основу его «досье», посвященного эпохе правления первых императоров Исаврийской династии [Speck, 2003, 514]. Спустя полвека патр. Фотий воспользовался экземпляром «Парфики» Арриана из библиотеки Синкелла. Как бы там ни было, «Парфика» Арриана отражала официальную пропаганду Аршакидского двора, сформировавшуюся в эпоху Митридата II (124-91 гг. до Р. Х.) или Фраата III (69-57 гг. до Р. Х.), чем и объясняется провозглашение фиктивного преемства Аршакидов от Ахеменидов [Балахванцев, 2009, 92]. Вероятно, именно эта пропаганда впоследствии была заимствована персами и повлияла на формирование легенды об Ахеменидском происхождении Сасанидской династии. Альтернативная традиция, восходящая к Аполлодору Артемитскому, более древняя и в большей степени достойна доверия, ибо Аполлодор был греком, жившим в Парфии, и имел доступ к источникам эпохи Селевкидов, современным созданию Парфянского царства [Nikonorov, 1998, 117–119].
Аммиан Марцеллин лишь кратко упоминает о дахах в связи с историей Аршака, не называя их по имени, но при этом презрительно характеризует их как «latrones», т. е. как разбойников: «Это царство, некогда весьма небольшое по размерам и по причинам, которые я часто приводил, носившее различные имена, после того как рок похитил в Вавилоне Александра Великого, стало достоянием парфянина Аршака. То был человек низкого происхождения. В юности он был атаманом разбойников, но постепенно возвысился в своих стремлениях и составил себе славное имя рядом блестящих деяний. После многих славных и храбрых подвигов он одержал победу над преемником Александра Селевком Никатором, которому это прозвище принесли его многочисленные победы^»2 (Hoc regnum quondam exiguum multisque antea nominibus appellatum ob causas quas saepe rettulimus, cum apud Babylona Magnum fata rapuissent Alexandrum, in vocabulum Parthi concessit Arsacis obscure geniti, latronum inter adulescentiae rudimenta ductoris, verum paulatim in melius mutato proposito clarorum contextu factorum aucti sublimius, qui post multa gloriose et fortiter gesta superato Nicatore Seleuco eiusdem Alexandri successore, cui victoriarum crebritas hoc indiderat cognomentum… (Amm. Marc. XXIII. 6. 2–3)). Как справедливо отмечает В. А. Дмитриев, ранняя история Парфии была известна Аммиану Марцеллину благодаря сочинениям Помпея Трога или, что более вероятно, его эпитоматора Юстина [Дмитриев, 2003, 195-200]. Следовательно, Аммиан должен был знать о «скифском» происхождении парфян, о котором писал Юстин, повторявший информацию Помпея Трога и его источника Аполлодора (Parthi, penes quos velut divisione orbis cum Romanis facta nunc Orientis imperium est, Scytharum exules fuere (Iust. XLI. 1. 1.)). Аммиан просто заменил нейтральный термин Юстина «exules» («изгнанники») более эмоционально насыщенной и тенденциозной характеристикой «latrones» («разбойники»). При этом позднеримский историк погрешил против истины, допустив контаминацию событий, и приписал первым вождям дахов победу над диадохом Селевком I Никатором (312–281 до Р. Х.), который основал на развалинах империи Александра Ш Македонского (356-323 до Р. Х.) огромную паназиатскую державу и превратился в гегемона Передней Азии. В действительности первые вожди дахов воевали против Селевкидского сатрапа Парфии Андрагора спустя много лет после гибели Селевка Никатора. Сыновья Фрияпата Аршак и Трдат свергли Андрагора и утвердились в Парфии примерно в конце царствования Антиоха II Теоса (261–246 до Р. Х.) или же в начале царствования Селевка II Каллиника (246–225 до Р. Х.), между 246 и 239 гг. до Р. Х. [Балахванцев, 2018, 180–181].
Следует отметить, что Юстин, пересказывая сведения Помпея Трога, сообщает, что Селевек Никатор официально провозгласил себя сыном Аполлона и рассказывает романтическую историю: «Ибо мать его Лаодика, когда вышла замуж за Антиоха, одного из славнейших полководцев Филиппа, увидела во сне, что зачала, совокупившись с Аполлоном, что, став беременной, она получила от него в дар за то, что отдалась ему, перстень, на котором было вырезано [изображение] якоря, и что бог повелел ей отдать этот дар сыну, который у нее родится. Особенно удивительным показалось видение Лаодики, когда на следующий день на ее ложе был найден перстень с таким точно изображением, и еще более, когда на бедре новорожденного ребенка оказалось родимое пятно в форме якоря. Поэтому Лаодика, когда Селевк отправлялся в персидский поход с Александром Великим, рассказала сыну о его происхождении и отдала ему этот перстень» (siquidem mater eius Laodice, cum nupta esset Antiocho, claro inter Philippi duces viro, visa sibi est per quietem ex concubitu Apollinis concepisse, gravidamque factam munus concubitus a deo anulum accepisse, in cuius gemma anchora sculpta esset; iussaque donum filio, quem peperisset, dare. Admirabilem fecit hunc visum et anulus, qui postera die eiusdem sculpturae in lecto inventus est, et figura anchorae, quae in femore Seleuci nata cum ipso parvulo fuit. Quamobrem Laodice anulum Seleuco eunti cum Alexandro Magno ad Persicam militiam, edocto de origine sua, dedit (lust. XV. 4)). Как полагал известный петербургский антиковед Ю. В. Откупщиков (1924-2010), культ Аполлона имеет не хетто-лувийское, а фракийское происхождение [Откупщиков, 2001, 293-300], что может объяснить распространение этого культа в античной Македонии, вызвавшее появление Селевкидской легенды в эллинистическое время. Легенда о происхождении Селевка от Аполлона, несомненно, отражает более широкую идею божественной реинкарнации, общее ожидание воплощения божества в исторический период, предшествующий приходу в этот мир Христа. Очевидно, легенда о соитии Аполлона с матерью Селевка была создана Селевком под влиянием мистических представлений своего времени вполне сознательно, в период вооруженной борьбы против диадоха Антигона I Одноглазого (306–301 до Р. Х.) в ходе Четвертой войны диадохов (308–301 до Р. Х.). Селевкидский миф был призван обосновать притязания Селевка на господство в Азии и уравнять этого диадоха в глазах его солдат с семьей Александра III Македонского (356–323 до Р. Х.), использовавшей в целях пропаганды генеалогическую легенду Эпирской царской династии Эакидов, к которой принадлежала мать Александра, царица Олимпиада (375–316 до Р. Х.), считавшаяся потомком Ахилла [Hamilton, 1965, 117-124]. Несложно предположить, что неудачная борьба потомков Селевка с парфянами бросала тень на их божественное происхождение, а ослабление династии Селевкидов в I в. до Р. Х. скомпрометировало основателя династии в письменной традиции, на которую впоследствии опирался Аммиан Марцеллин. Антиох X Эвсеб Филопатор (95–83 до Р. Х.) погиб в бою с парфянами; Деметрий III Эвкер (95–88 до Р. Х.) попал в плен к парфянскому царю Митридату II (124/123–88/87 до Р. Х.). В глазах совремнников Митра оказался сильнее Аполлона.
Исследователи в большинстве признают, что дахи были ираноязычным кочевым племенем массагетского круга, до вторжения в Парфию кочевавшим в степях Приуралья и тесно связанным своим происхождением с заволжскими и приуральскими сарматами [Смирнов, 1984, 115–118; Пьянков, 2013с, 598–616]. На раннем этапе своей истории дахи вступили в союз с державой Ахеменидов и совместно с бактрийцами воевали против Александра III Македонского в составе персидской армии в битве при Гавгамелах (331 г. до Р. Х.), а после падения Ахеменидов принимали участие в походе Александра в Индию (327-325 гг. до Р.Х.) [Нефедкин, 2019, 91-108]. В середине III в. до Р. Х. дахи вторглись в Парфию, являвшуюся в то время Селевкидской сатрапией [Lerner, 1999, 29–31]. Путь продвижения дахов пролегал от среднего течения Сырдарьи вниз по реке до Аральского моря, а затем на юг, ибо движение на запад через Узбой было закрыто кочевой ордой апасиаков. Марек Ольбрыхт и И. В. Пьянков реконструируют направление наступления дахов при помощи сравнения с аналогичными маршрутами средневековых сельджуков Тогрул-бека (1038-1063) и позднесредневековых узбеков Шейбани-хана (1500–1510) [Olbrycht, 1998, 47 n. 163, 61 n. 65; Пьянков, 1979, 193–207 (195 n. 4)].
После создания государства Аршакидов около 248/247 г. до Р. Х. дахи (апарны), вероятно, в течение двух-трех поколений ассимилировались в среде оседлых ираноязычных племен Парфии и перешли на западноиранский парфянский язык. По мнению В. А. Лившица, уже во 2-й пол. III в. до Р. Х. появилась парфянская письменность, для создания которой был использован арамейский алфавит, точнее «имперско-арамейский» вариант этого алфавита, в частности, употреблявшийся при написании легенд на монетах Селевкидского сатрапа Парфии Андрагора [Лившиц, 2010, 298–302]. Изображения первых Аршакидских царей с башлыками на головах на парфянских монетах лишь подтверждают связи парфян со степными племенами сако-массагетского и скифосарматского мира [Dibvoise, 1937, 9–16; Дибвойз, 2008, 28–48]. Главной ударной силой парфян со временем стала тяжелая конница, организованная по сако-массагетскому образцу. Эллинизировавшиеся преемники Аршака, например парфянский царь Фраат II (132–128/127), убитый в бою с саками, или его преемник Артабан I (128/127–124/123), смертельно раненный в битве с тохарами, были вынуждены противостоять новым волнам кочевых сакских племен, сокрушивших Греко-Бактрийское царство и вторгшихся в Парфию (Юэчжи китайских хроник); [Olbrycht, 1998, 85–91; Tarn, 1938, 270–311; Dibvoise, 1937, 54–69; Дибвойз, 2008, 54–55]. Тем не менее парфянская аристократия, управлявшая Ираном и Сирией, в определенной степени сама сохраняла традиции кочевого уклада жизни и, что самое важное, военную систему, характерную для кочевников евразийских степей, в частности для сарматов [Никоноров, 1995, 53–61; Никоноров,
1987, 21–236; Хазанов, 1971, 64–90]. Примечательно, что борьба Фраата II против саков началась с того, что против парфянского царя взбунтовались сакские наемники, набранные для участия в походе против Селевкидского царя Антиоха VII Сидета (164–129 гг. до Р. Х.), но опоздавшие с прибытием на театр военных действий (Diod. Sic. XXXIV. 18. 1; lust. XLII. 1. 1.); [Bevan, 1902, II. 236-246]. Фраат II положил начало активному инкорпорированию среднеазиатских саков в парфянские дружины.
Подобное обстоятельство способствовало известному парфяно-сакскому симбиозу, проявившему себя уже на излете эпохи эллинизма. Артабан I назначил одного из членов парфянского клана Суренов правителем Дрангианы в период борьбы с саками, что имело, по-видимому, важнейшие культурные последствия для всего иранского мира. Саки играли на первых порах заметную роль в жизни завоеванных ими территорий Парфянской державы. Артабан I даже платил им некоторое время дань. Саки дали название целой области Парфянского царства, которую они смогли удержать, — Сакастан, «страна саков» (позднее — Систан). История кровавой борьбы парфян и саков в Дрангиане в эпоху Артабана I могла быть изначальной исторической основой для более поздних парфянских эпических сказаний о подвигах сакского витязя Родстахма [Herzfeld, 1931–32, 1–116], поступившего на службу парфянскому царю. Поздний армянский историк Моисей Хоренский называл Родстахма именно «саком», т. е. представителем кочевой элиты Юэчжи.
Парванех Пуршариати подтверждает, что парфянский княжеский дом Суренов, правивший в Сакастане (Систане), содержал госанов (миннезингеров), сложивших эпические сказания о сакском витязе Родстахме. Причем парфяне почитали Род-стахма как эманацию авестийского бога Митры [Pourshariati, 2008, 117-118]. В научной литературе в разное время предпринимались попытки отождествления Род-стахма с Суреной, победителем Марка Лициния Красса (115/114–53 до Р. Х.) в битве при Каррах (53 г. до Р. Х.), или с индо-парфянским царем Гондофаром, правившим в Систане на рубеже нашей эры. Однако нам представляется более убедительной гипотеза И. В. Пьянкова. Этот исследователь выявил сюжетные параллели между историей знакомства Рустама и Тахмины в изложении Абулькасима Фирдоуси (940–1020) (Фирдоуси, 1960, II, 8–15), более ранними изображениями этого сюжета на фресках Пенджикента (VI в.) и рассказанной Геродотом скифской династической легендой о совокуплении Геракла с женщиной-змеей (Hrdt. IV. 8-10), что позволило установить древние скифские истоки сказаний Систанского цикла, восходящие к эпохе скифских походов в страны Передней Азии и установления господства скифов в Северном Причерноморье [Пьянков, 2013d, 531–538].
Впоследствии, уже при последних Сасанидах, парфянские сказания о Родстахме были инкорпорированы в книгу царей «X w aday-Namag». Как полагает Парванех Пур-шариати, это инкорпорирование имело место в период правления царицы Бурандохт (630-632) — дочери Хосрова II Парвиза (591-628), т. е. тогда, когда власть в Сасанидском Иране ненадолго перешла к парфянскому клану Испахбедов [Pourshariati, 2008, 462]. Оттуда предание о Рустаме было заимствовано средневековыми персидскими поэтами Дакики (935/942–967/980) и Фирдоуси (940–1020).
Как отмечает А. А. Амбарцумян, имя сакского героя имеет восточно-иранское происхождение и может быть реконструировано путем привлечения материалов авестийского языка. Первая часть имени, «rod», может происходить от авестийского raoiSita — «красноватый, румяный, алый». От этого же корня происходит имя кабульской (т. е. сакской) княжны, матери Родстахма, — Rodaba. Со среднеперсидского «roy» переводится как «[красная] медь». Вторая часть имени, «stahm», через посредничество среднеперсидского языка восходит к авестийскому прилагательному staxra — «сильный», «твердый» (Амбарцумян, 2009, 199-200). Упоминание о сакском витязе по имени Roystahm (Родстахм) было включено в парфянский эпос «Айадгар-и-Зареран», записанный уже в сасанидское время (V-VI вв.), — песнь о героической борьбе иранцев против кочевников-хионитов за зороастрийскую веру (Амбарцумян, 2009, 199–204). Подобные произведения были популярны в парфянской, а позднее в сасанидской военной и придворной среде, в сословии азатов — конных воинов, формировавших шахскую дружину [Периханян, 1983, 14; Периханян, 1973, 445].
Рустам упоминается в произведениях согдийской литературы раннего Средневековья. «Будь храбрым наездником, подобно храброму Рустаму», — гласит согдийский фрагмент из Турфана (Амбарцумян, 2009, 201). Серия подвигов Рустама и его спутников, в частности сакской княжны Гурдафарид, изображена согдийскими художниками на фресках VI-VII вв., найденных в городе Пенджикент [Белениц-кий, 1973, 47–48]. Пехлевийский текст «Города Ирана» свидетельствовал о том, что «Город Фрах (Фарах) и город Завалистан (Газни) построил Рустам Сакастан-шах (царь Сакастана)» [Хуршудян, 2010].
Спустя век после падения Греко-Бактрийского царства на пограничных территориях Парфии, где расселились саки, сформировалось новое Индо-Парфянское царство. Первым индо-парфянским царем стал Гондофар I (20-10 до Р.Х.), правитель Сакаста-на, возможно, родственник парфянского клана Суренов. Изначально Гондофар был вассалом индо-скифов (так назывались саки, завоевавшие северо-западную часть Индийского субконтинента). Но после смерти индо-скифского царя Азеса I (48/47– 25 гг. до Р. Х.) Гондофар существенно расширил свои владения. По свидетельству апокрифических «Деяний апостола Фомы» после 29 г. по Р. Х. индо-парфянский царь Гондофар II — вероятно, один из преемников Гондофара I, слушал проповедь Христа в изложении ап. Фомы [Bivar, 2002, XI. 2. 135–136; Зеймаль, 1968, 111–114].
Драматические события сако-парфянского противостояния в эпоху Фраата II и Ар-табана I и последующие перипетии культурного симбиоза парфян и саков совпали по времени с завершающим этапом развития раннесарматской (прохоровской) культуры (IV–II вв. до Р. Х.) в степях Евразии. К. Ф. Смирнов связывал с образованием в нач. IV в. до Р. Х. этой целостной общесарматской археологической культуры, простиравшейся от Приуралья до Поволжья, начало сарматских миграций [Смирнов, 1964, 286–290]. Происхождение этой культуры, по мнению исследователя, было тесно связано с предшествующей савроматской (блюменфельдской) культурой (VII–IV вв. до Р. Х.), но развитие ее было обусловлено нашествием новых волн среднеазиатских кочевников в южнорусские степи. И. П. Засецкая подчеркивает, что этому нашествию уже предшествовал процесс формирования специфической культуры на территориях задонских степей, населенных савроматами [Засецкая, 2008, 4–5]. Примерно в III–II вв. до Р. Х. европейская Скифия подверглась ужасающему нашествию сарматов — ираноязычных носителей прохоровской культуры, пришедших туда из Нижнего Поволжья и приуральских степей [Симоненко, 2012, 45-57]. М. И. Ростовцев высказал предположение о том, что вторжение сарматов в Скифию было спровоцировано событиями, происходившими в Средней Азии после появления там Александра III Македонского (в 330–327 гг. до Р. Х.), однако подобное предположение разделяется сегодня не всеми специалистами. Новейшие исследования скифского языка и сопоставление его элементов с элементами языка сарматов свидетельствуют об отсутствии скифо-сарматоосетинского языкового континуума. По мнению С. Р. Тохтасьева, понтийские скифы и сарматы разговаривали на разных языках, хотя и родственных, но разделившихся в древнейший период развития восточно-иранской языковой общности [Тохтасьев, 2005, 59-106]. В сер. II в. до Р.Х. сарматы, возможно, принимали участие в наступлении азиатских саков (Юэчжи) в Средней Азии вскоре после поражения, понесенного саками (Юэчжи) от хунну в первой половине столетия [Боровкова, 2005, 13-21]. Результатом этого поражения стал уход саков на юг, разгром ими Греко-Бактрийского царства и последующее вторжение саков в Индию [Смирнов, 1984, 115–121]. Подобно сакам в Бактрии и Индии, европейские сарматы наступали из-за Волги на Запад несколькими волнами с III в. до Р. Х. по II в. по Р. Х. В авангарде были сирматы, затем языги, достигшие Днестра, и роксоланы, оставшиеся в степях Северной Таврии. Потом шли сирахи и аорсы, закрепившиеся в кубанских и донских степях. С окончательным утверждением этих племен в южнорусских степях связано появление новой среднесарматской (сусловской) культуры (I в. до Р.Х. — I в. по Р. Х.). Аланы, захватившие степи между Доном и Каспийским морем в сер. I — 1-й пол. II вв. по Р. Х., осуществляли свои завоевания на фоне развития новой позднесарматской (шиповской) культуры (I–IV вв.), которая непосредственно предшествовала нашествию гуннов. Экспансия саков в южном направлении и сарматов в западном направлении имела важнейшие культурные последствия, связанные с распространением военного искусства кочевников, их специфической материальной культуры и социально-политической сферы влияния на огромных территориях евразийского степного пояса от Инда до Дуная.
Парфянская традиция привлечения в армию среднеазиатских кочевников сохранялась и при первых Сасанидах. По свидетельству Геродиана, раннесасанидская армия была организована точно так же, как и парфянская, то есть по иррегулярному принципу (Herod. VI. 5. 3–4). Ядро этой армии составляла конница, в которую легко вливался кочевой элемент. Влияние этого элемента на персов было столь сильным, что персы усваивали обычаи кочевников; в частности, Геродиан отмечает, что персы с детства упражняются в искусстве верховой езды и никогда не сходят с коней (οὔτε τῶν ἵππων «noeaivovTeg). Утверждение Геродиана о том, что у персов женщины принимают участие в боевых походах наравне с мужчинами по приказу царя (ἀλλὰ πᾶν τὸ πλῆθος tov avSpav, ео0' опр Kal tov YuvaiKOv, enav кеХеиор ваоЛеид, aQpoiZeTai), может рассматриваться как дополнительное свидетельство наследования персами парфянских и сакских военных традиций. О сохранении этих традиций свидетельствует и Аммиан Марцеллин. В частности, историк вместе со своими современниками, императором Юлианом и мифическим Элием Лампридием, упоминает т.н. клибанариев или ка-тафрактов, т. е. тяжеловооруженных всадников, которые появились в римской армии по приказу императора Констанция II (337–361) под персидским влиянием (catafracti equites quos clibanarios dictitant (Amm. Marc. XVI. 10. 8; Iulian. Orat. I. 29–30; Orat. III. 9; SHA Alex. LVI. 5)). Как отмечал Рональд Сайм, употребление Аммианом Марцелли-ном и Элием Лампридием одинаковых военных терминов может свидетельствовать в пользу предположения о связях между Аммианом и текстом «Истории августов» [Syme, 1968, 41]. Аммиан Марцеллин в истории Констанция и Элий Лампридий в биографии Александра Севера подтверждают, таким образом, что в раннесасанидскую эпоху персы сохранили и, вероятно, даже усилили тяжелую конницу, формировавшую основу вооруженных сил Парфии. Именно поэтому присутствие в войске Шапура II хионитской дружины Грумбата не должно нас удивлять. Союз Шапура и Грумбата опирался на старинную традицию отношений царей Ирана (вначале парфянских, затем персидских) со среднеазиатскими кочевниками. Роль царя хионитов Грумбата под стенами Амиды в 359 г. еще более проясняется благодаря рассмотрению цепи событий, которые предшествовали возобновлению войны Шапура II (309–379) с римским императором Констанцием II (337–361) на исходе 350-х гг.
В нач. 350-х гг. в Римской империи вспыхнуло восстание галльского узурпатора Магненция. Именно в этот критический момент Констанций принял решение о переброске в Европу лучших подразделений восточной армии, в частности римских катафрактов [Банников, 2021a, 61–63, 415–417], более десяти лет воевавших с персами на восточной границе. На Восток был отправлен неопытный цезарь Констанций Галл (брат Юлиана), который должен был прикрывать границу, опираясь на незначительные воинские силы. Понимая это, Констанций организовал брак Галла со своей могущественной сестрой, августой Константиной, которая целиком подчинила мужа своему влиянию и удостоилась от Аммиана Марцеллина прозвания «мегеры в человеческом облике» (Maegera quaedam mortalis (Amm. Marc. XIV. 1. 2)). В тылу у римлян вскоре началось восстание иудеев, подавленное Галлом при участии Константины [Мехамадиев, 2020, 39–52].
И что же предпринимает Шапур II? Вместо того чтобы, подобно своему предку Шапуру I, в этот отчаянный для римлян момент атаковать Галла, нанести решающий удар в Армении или на антиохийском направлении, он вдруг заключает с Галлом перемирие и перебрасывает свою первоклассную конницу на восточную границу Сасанид-ской державы. Объяснение подобным чудесам следует искать в военно-политической обстановке, сложившейся вдоль левого берега Амударьи, который, по сообщению сирийского автора, был захвачен кочевниками. Сирийская «Хроника Арбелы» сообщает нам, в частности, что Шапур II после тяжелой войны с римлянами был вынужден защищать свою страну против варваров, которые пришли из-за «дальнего моря», т. е. из-за Аральского моря [Mingana, 1907]. С нашей точки зрения, эти варвары и были гуннами, которых Аммиан Марцеллин, следуя своим персидским информаторам (пленным или перебежчикам), называет хионитами. Возможно, первой жертвой хионитов стало т. н. Кушано-Сасанидское царство, исторический преемник Индо-Парфянского царства Гондофара, основные территории которого располагались в восточной части Сасанидских владений. Это царство, по-видимому, представляло собой не самостоятельное государство, а протекторат, который персы установили над бывшими владениями кушанских царей в правление Шапура II [Луконин, 1974, 302–307]. Хиониты атаковали эти территории, следуя древним маршрутам, по которым некогда саки Юэчжи вторглись в Греко-Бактрийское царство. Как отмечает Аммиан Марцеллин, основные боевые действия персидского царя против хионитов и геланов (этноним неясного происхождения) развернулись примерно в сер. 350-х гг. Но в 358 г. Шапур заключил с хионитами и геланами мир, который позволил ему вновь перебросить силы на западный фронт и возобновить борьбу с римлянами (Amm. Marc. XVII. 5. 1); [Rezakhani, 2017, 89–93]. Шапур смог победить хионитов и обязал хионитского царя Грумбата платить дань кровью, то есть рекрутировать в сасанидские войска хионит-ские конные контингенты. Ходад Резахани высказал, на наш взгляд, не слишком убедительное предположение о том, что Аммиан Марцеллин, цитирующий персидские титулы Шапура II, подразумевает под «победоносным царем царей Шапуром» (persis Saporem saansaan appelantibus et pirosen (Amm. Marc. XIX. 2. 11.)) не Шапура II, а кушано-сасанидского царька Пероза, известного благодаря монетам, который отличился в боях с хионитами, геланами и сегестанами на северо-восточной границе [Rezakhani, 2017, 78–79]. Причем, по мнению Аммиана Марцеллина, самыми храбрыми воинами из всех этих враждебных персам племен были сегестаны (segestani acerrimi omnium bellatores (Amm. Marc. XIX. 2. 3.); [Shahbazi, 1986, II/5. 489-499]), шедшие в бой вместе с отрядами боевых слонов. Вероятно, под сегестанами Аммиан имел в виду какие-то остатки саков, сохранявших кочевой образ жизни в ирано-кушанском приграничье (на это указывает наличие отряда слонов, действовавшего вместе с сегестанами) и отождествлявшихся персидским информатором Аммиана с сакастанскими саками времен Артаба-на I вследствие известного анахронизма восприятия этим информатором современной этнографической действительности. Аммиан, достаточно слабо представлявший себе современную ему этническую географию Среднего Востока, поддался соблазну отождествления кушанских саков, названных его информатором сакастанцами, с известными ему из литературных произведений варварами сегестанами (Σεγεστανοί), которые, по свидетельству Аппиана, населяли Верхнюю Паннонию в эпоху Третьей Македонской войны (171–168 гг. до Р. Х.) (App. X. 2.10). Страбон и Плиний Старший упоминают Сегестику (Segestica), область в Паннонии (Strab. VII. 5. 2; Plin. NH III. 148), которая, разумеется, не имела к среднеазиатским кочевникам времен Шапура II никакого отношения. Впрочем, не исключено, что Аммиан, отдавая дань литературной традиции, механически употреблял различные этнонимы (хиониты, геланы, сегестаны) для обозначения одних и тех же кочевых племен. Например, как уже было отмечено, в 19-й книге своего сочинения историк называет самыми храбрыми воинами сегестанов, т. е. саков, а в 17-й книге он удостаивает подобной лестной характеристики хионитов и геланов (cum Chionitis et Gelanis omnium acerrimis bellatoribus (Amm. Marc. XVII. 5. 1)).
Проблема этнического происхождения хионитов вызывает особый интерес исследователей в последние годы. Упомянутые Аммианом Марцеллином хиониты известны из памятников парфянской литературы, например из уже упомянутого эпоса «Айадгар-и-Зареран», который восходит к парфянской эпической традиции, повествующей о войнах Фраата II и Артабана I с саками Юэчжи. Этноним Chionites у Аммиана представляет собой латинскую передачу среднеперсидского этнонима
Xiyōn/Xyon или согдийского Xwn, который, в свою очередь, восходит к авестийскому Xiiaona. В Авесте этим термином обозначались туранцы, азиатские «скифы», т.е., вероятно, саки, враждебные царям Мидии и учению Заратуштры.
Но как отмечает И. В. Пьянков, в составе Авесты сохранились следы еще более древнего иранского эпоса, благодаря которым можно сделать вывод о том, что враги зороастрийских племен, упомянутые выше Xiiaona, не были ираноязычными кочевниками, но были носителями иной культуры [Пьянков, 2013a, 402–428; Пьянков, 2012, 602–605]. В частности, вождь туранцев Fraŋrasyan (Афрасиаб) произносит в тексте Авесты заклинания на неизвестном неиранском наречии. И. В. Пьянков связывает подобное явление с миграциями древних кочевников из Центральной Азии на Запад в XII–VIII вв. до Р. Х., о которых свидетельствует смена ряда археологических культур в Южной Сибири и Средней Азии и которые отчасти совпадают с рассказами древнегреческого путешественника Аристея Проконесского (VII в. до Р. Х.). Главными участниками этих миграций были прототибетские (и протоенисейские) племена, обозначенные в китайских источниках как жуны и ди, а у Аристея Проконесского как аримаспы и амазонки. Эти племена серьезно повлияли на развитие восточно-иранских кочевых племен Южной Сибири и Приуралья, в частности на развитие исседонов, а также сав-роматов Придонья. Вначале на Запад двинулись жуны, а позднее ди, которые представляли собой племена, принадлежавшие к прототибетской и родственной прото-енисейской общности. Следствием появления прототибетцев и протоенисейцев в среде восточно-иранских кочевников стало распространение у скифской аристократии «звериного стиля», также других элементов т. н. «скифской триады», акинаков и особого конского снаряжения и, наконец, утверждение у савроматов гинекократии. Последнее обстоятельство объясняет появление древнегреческой традиции, повествующей об амазонках. При этом савроматская гинекократия представляла собой не обычный пережиток матриархата у этого народа, как полагал Б. Н. Граков [Граков, 1947, 100–121], а результат утверждения в ираноязычной кочевой среде прототибетского суперстрата (жуны) и протоенисейского суперстрата (ди). Именно поэтому гинекократия существовала не только у савроматов, но также у азиатских саков, что зафиксировано в древнейшем восточно-иранском эпосе о сакских царицах Зарине (Ctes. Fragm. 7. 8a) и Спаретре (Ctes. Fragm. 9. 3), пересказанном Ктесием и Харесом Митиленским [Пьянков, 2013e, 512-513; Бартольд, 1915, 2-4]. И.В. Пьянков отмечает также, что в указанных миграциях принимало участие племя хьянъюн, которое отождествляется с предками хунну. Исследователь делает на этом основании вывод о тюркоязычии народа хьянъюн, хотя этническая принадлежность хунну и их предков до сих пор представляет собой сложнейшую этнолингвистическую проблему, далекую от разрешения. В действительности древние хунну эпохи первых шаньюев, вероятнее всего, разговаривали на неизвестном восточно-иранском языке, родственном хотано-сакскому [Beckwith, 2018, 53–75; Harmatta, 1994, 485–493; Golden, 2006, 136–157 (142)], а тюркские языки гунно-болгарской группы распространились среди европейских гуннов лишь на заре Средневековья, в эпоху Аттилы, или даже в эпоху т. н. кочевников постгуннского времени. Кроме того, высказывалась убедительная версия о том, что древние хунну изначально говорили на енисейском языке [Vovin, 2000, 87–104; Pulleyblanck, 2000, 52–101], что в целом подтверждает теорию И. В. Пьянкова о гегемонии протоенисейских и прототибетских племен в евразийских степях в эпоху поздней Бронзы.
Очевидно, что древний авестийский этноним Xiiaona использовался еще в до-авестийскую эпоху для характеристики прототибетцев и протоенисейцев (жунов и ди), подчинивших значительную часть кочевых племен скифского круга. В парфянскую эпоху этот этноним употреблялся зороастрийскими мобедами в качестве terminus technicus для обозначения саков, позднее аланов, и, наконец, при Сасани-дах он определял тех, кто пришел на смену аланам и, подобно древним кочевникам, угрожал Ирану в IV в.
На каком основании мы можем сделать вывод о тождественности хионитов IV в. и гуннов в сочинении Аммиана Марцеллина? Как известно, после окончательного поражения хунну от сяньбийцев во II в. часть хунну отступила в Семиречье, где создала кочевую орду, известную из китайских источников как Юэбань. Политическая история этого кочевого объединения практически неизвестна, за исключением упоминания высокой степени чистоплотности этих кочевников, сделанного авторами Вэйшу — китайскими историками, которые служили сяньбийским императорам3. В историографии предпринимались попытки противопоставления Юэбани абарам или аварам, которые вторглись в Европу в сер. VI в., и племени уар, возможно, связанным с эфталитами. Примечательно, что Феофилакт Симокатта, византийский историк и секретарь императора Ираклия (610-641), который воспроизводит на страницах своей истории пропагандистскую версию происхождения аваров, известную из знаменитого письма тюркского хана императору Маврикию (582-602), рассказывает, что псевдоавары (так он называет аваров, вторгшихся в Европу) произошли от соединения племен уар и хуни (= уархониты) [La Vassière de, 2015, 91–102; La Vassiere de, 2010, 219-224; Гумилев, 1965, 67-76]. Возможно, эта деталь, изложенная Фео-филактом Симокаттой, отражает определенную этническую реальность, связанную с тем, что истинные авары (=жужань), бежавшие в сер. VI в. на Запад от тюркютов, присоединили к себе в Семиречье отдельные группировки хунну (= хуни), которые в IV в. входили в состав Юэбань и были связаны с хионитами Аммиана Марцеллина. Вальтер Пол в свое время отмечал, что такие этнонимы, как «хиониты», «уархониты» или даже «авары», могли быть не чем иным, как персидским или согдийским обозначением гуннов [Pohl, 1988, 32].
Наиболее вероятно, что хиониты Аммиана объединили те группировки хунну, которые ушли из Монголии в Среднюю Азию после поражения, понесенного от сянь-бийцев, и утвердились в районе Чача [Schuessler, 2014, 257, 264; Fedorov, 2010, 59–67]. Как убедительно отмечает Ходадад Резахани, имя Grumbates происходит от бактрий-ского Gurambad (= γοραμβαδο), встречающегося в бактрийских документах из Rob [Rezakhani, 2017, 92–93; Sim-Wiliams, 1997, 3–15 (13); Sim-Wiliams, 2010, 56, 119], т. е. имеет ярко выраженное восточноиранское происхождение. Это обстоятельсво свидетельствует о культурной ассимиляции и иранизации той группировки кочевников, во главе которой стоял Грумбат. Аммиан Марцеллин, описывая похороны убитого под Амидой царевича, сына Грумбата, свидетельствует о том, что хиониты практиковали трупосожжение, вероятно, с последующим захоронением праха (post incensum corpus ossaque in argenteam urnam conlecta, quae ad gentem humo mandanda portari statuerat pater (Amm. Marc. XIX. 2.1)). При этом перед церемонией трупосожжения тело сына Грумбата было выставлено на всеобщее обозрение на высоком помосте, а вокруг были расположены десять лож с изображениями умерших, возможно, других павших в бою хионитов, которые были, по словам историка, «так хорошо изготовлены, что совершенно походили на покойных» (circaque eum lectuli decem sternuntur figmenta vehentes hominum mortuorum, ita curate pollincta, ut imagines essent corporibus similes iam sepultis (Amm. Marc. XIX. 1. 10)). Не скрывается ли за этим рассказом Ам-миана обычай золочения мертвых тел и выставления их на поклонение, который археологически зафиксирован у саков еще в VII в. до Р. Х. (тасмолинская культура) и который связывался И. В. Пьянковым с влиянием на ираноязычных кочевников прототибетского суперстрата [Пьянков, 2013a, 416–417]? Аммиан или его информатор могли легко ошибиться и принять за посмертные figmenta сами тела, обработанные специальным образом для поклонения.
Обряд трупосожжения не встречается ни у сарматов, культура которых идентифицируется наличием трупоположения в курганах и могильниках, ни у парфян или персов, которые, следуя Авесте (Видевдату), оставляли тела в дикой природе.
Но трупосожжение с последующим захоронением пепла или фрагментов костяка с инвентарем хорошо известно благодаря памятникам из южнорусских степей, которые датируются гуннской эпохой (2-я пол. IV в. — сер. V в.) [Засецкая, 1994, 12–22]. И. П. Засецкая связывает распространение подобного погребального обряда с сер. IV в. с вторжением в южнорусские степи гуннов, в котором исследователь видит западную экспансию тюрко-монгольских племен хунну. Добавим, что вторжение гуннов/хунну в южнорусские степи, датируемое И. П. Засецкой на основании археологических данных сер. — 2-й пол. IV в. (340-370), хронологически совпадает с экспансией хионитов, геланов и сегестанов в Средней Азии и Тохаристане (350-е). В настоящее время большинство исследователей склоняется к близкому отождествлению хунну и т. н. европейских гуннов, отвергая, в частности, устаревшую теорию М. И. Артамонова и Л. Н. Гумилева, исходя из которой европейские гунны рассматривались как этнос метисов, испытавший сильное влияние угорских приуральских племен и переживший после поражения от сяньбийцев масштабную социокультурную деградацию. При этом, если антропология гуннов, как и антропология поздних сарматов, носит ярко выраженные признаки принадлежности к монголоидной расе, то этническая принадлежность гуннов вызывает дискуссии. Как уже было отмечено выше, современные исследователи признают, что хунну, будучи по происхождению протоенисейским племенным союзом, испытали на себе сильное влияние иранской кочевой культуры, что выразилось как в заимствовании гуннами восточноиранских языков, например сакских, так и в восприятии гуннами элементов позднесарматской материальной культуры [Боталов, 2009, 171–308: Боталов, Гуцалов, 2000, 28–222]. С этой точки зрения вполне вероятно, что хиониты Аммиана Марцеллина представляли собой группировку азиатских хунну, которые подверглись в период кочевания в Средней Азии известной культурно-лингвистической иранизации. Подобное предположение не означает, что мы должны отбросить исходную енисейскую гипотезу происхождения хунну [Huang Yungzhi, 2016, 93–108], ибо культурноязыковая иранизация хунну происходила по мере их дальнейшего распространения по евразийским степям в западном направлении.
Аммиан Марцеллин в рассказе о событиях римско-персидской «войны-продолжения», которую начал Шапур в 359 г., приводит интересный фрагмент из письма персидского шаха Шапура II (307–379) императору Констанцию II (337–361). Шапур II кратко формулирует в этом фрагменте внешнеполитическую программу Сасанидского государства, направленную на восстановление державы Ахеменидов и ее западной границы. Шапур II, в частности, пишет следующее: «О том, что мои предки владели территориями до реки Стримон и границ Македонии, свидетельствуют даже ваши старые записи. Требовать прежних границ подобает мне, так как я — никто не сочтет высокомерным мое заявление — превосхожу древних царей блеском и множеством выдающихся подвигов. На сердце у меня прежде всего чувство правды; придерживаясь его, я никогда не сделал ничего такого, в чем бы приходилось каяться. Я должен поэтому возвратить себе Армению и Месопотамию, которые были коварно отняты у моего деда» (Ad usque Strymona flumen et Macedonicos fines tenuisse maiores meos, antiquitates quoque vestrae testantur: haec me convenit flagitare — ne sit adrogans, quod adfirmo — splendore virtutumque insignium serie vetustis regibus antistantem, sed ubique mihi cordi est recta ratio, cui coalitus ab adulescentia prima nihil umquam paenitendum admisi. Ideoque Armeniam recuperare cum Mesopotamia debeo, avo meo conposita fraude praereptam (Amm. Marc. XVII. 5. 5–6)).
Итак, в изложении Аммиана Марцеллина, Шапур II повторяет основные тезисы внешнеполитической доктрины своих предшественников: Ардашира I Папакана (224/227–240/241) и Шапура I (240/243–272/273), которые, по свидетельству Геродиана, преследовали цель реконкисты Передней Азии [Herod. VI. 2. 2; VI. 2. 6–7]. Историк III в. Геродиан утверждает, что шахи Ирана мечтали о воссоздании империи Ахеме-нидов, со времен Кира Великого (559–530 гг. до Р. Х.) владевшей всей Азией вплоть до Геллеспонта и, добавим, не только Азией, но в эпоху Дария I (522–486 гг. до Р. Х.)
и Ксеркса I (486-465 гг. до Р. Х.) также фракийским побережьем и, вероятно, даже Македонией [Борза, 2013, 142–155]. Проблема сасанидо-ахеменидской преемственности представляется дискуссионной, ибо сама по себе идея подобной преемственности в большей степени соответствовала представлениям о персах греко-римских интеллектуалов времен императора Александра Севера (222–235), чем самим персам времен Арташира Папакана, пережившим столетия парфянского владычества. И если ахеме-нидские цари подражали древним самодержцам Элама, Мидии и Вавилона [Данда-маев, 2013, 52–87; Дандамаев, 2015, 207–322], то сасанидская идеология, как уже было отмечено, формировалась под сильным парфянским влиянием. Этим же влиянием, вероятно, следует объяснять рецепцию и реинтерпретацию аршакидской идеологии, утверждавшей принцип ахеменидо-аршакидского континуитета, в раннесасанидскую эпоху. Вторжение хионитов в пределы Ирана должно было точно таким же образом оживить парфянские предания о борьбе царей Аршакидов со среднеазиатскими кочевниками: саками и аланами.
И здесь мы можем реконструировать дальнейшие события по аналогии с событиями давно минувшими. В историографии (М. И. Ростовцевым) высказывалось мнение о том, что вторжение сарматов в Скифию в кон. IV — нач. III вв. до Р. Х. и последующее полное разорение ими скифских территорий, упомянутое Диодором Сицилийским, стало прямым следствием похода Александра III Македонского в Среднюю Азию (329– 326 гг. до Р. Х.). Поход Александра в Среднюю Азию заставил кочевые массагетские племена, тесно связанные с савроматами и исседонами общностью языка и культуры, покинуть степи Приуралья и начать отступление на Запад, за Волгу и Дон [Скрипкин, 2017, 132; Алексеев 2003, 250–251]. Как показал Марек Ольбрыхт, сако-массагетские племена поставляли Александру воинские контингенты для похода в Индию, а с 323 г. до Р. Х. иранские подразделения уже составляли большинство в армии Александра [Olbrycht, 2004, 102–204]. Не исключено, что значительная часть кочевой массагетской аристократии, не желавшая поставлять Александру дань воинами и женщинами, действительно предпочла тогда уйти на Север, а затем на Запад, за Волгу.
С этой точки зрения вполне возможно, что победа Шапура II над хионитами в Сасанидо-Кушанском царстве и включение дружины Грумбата в состав персидской армии на какое-то время точно таким же образом привело к изменению направления миграции среднеазиатских гуннов. Это обстоятельство могло спровоцировать знаменитые события нач. 370-х гг., которые были столь талантливо описаны Аммианом Марцеллином и Иорданом. Не исключено, что какая-то значительная часть гуннов ушла из Средней Азии на рубеже 350–360-х гг. на фоне известий о поражениях, понесенных их родичами — хионитами, геланами и сеге-станами Аммиана Марцеллина — от персов. Десять лет спустя эти орды беглецов нанесли удар по аланам-танаитам, форсировали Дон, а затем под командованием Баламбера разгромили готов Германариха и остготов Винитария (Iord. Getica 247); [Казанский, 2014, 28-51 (39)]. Понять внутренние социально-политические процессы, происходившие в этот период у гуннов, чрезвычайно сложно из-за крайнего дефицита письменных источников. Поэтому, учитывая важное значение хунно-сакского и гунно-сарматского симбиоза в евразийских степях, можно предложить реконструкцию ранней гуннской истории сер. IV в. по аналогии с историей более детально изученного сарматского общества.
Сводки сарматского оружия и доспехов, составленные в разное время А. М. Хазановым и А. В. Симоненко, свидетельствуют о наличии у этих кочевников самостоятельного комплекса наступательного и оборонительного вооружения, включавшего длинные копья и конский доспех. Таким образом, сарматы в ходе своей военной экспансии на Запад мало зависели от импорта македонского или римского вооружения. Сарматский комплекс вооружения, активно эволюционируя, сохранял свою популярность до сер. III в. по Р. Х., т. е. вплоть до появления в Северном Причерноморье готов и формирования т. н. гото-аланского комплекса вооружения [Симоненко, 2010, 13–256; Хазанов, 1971, 5–94]. А. В. Симоненко выделяет три волны импорта римских изделий на территорию Северного Причерноморья в сарматскую эпоху, а также дополнительный «позднеримский» этап импорта. Эти волны импорта в полной мере отражают интенсивность контактов между сарматами и Римской империей, которые, как правило, приобретали характер войн и грабительских набегов кочевников на приграничные районы империи. В частности, первая волна импорта связана с войнами понтийского царя Митридата VI Эвпатора (120-63 гг. до Р. Х.) против римлян. Вторая волна обусловлена активными контактами между Римской империей и Боспорским царством (2-я пол. I — сер. II в. по Р. Х.). Третья волна была вызвана маркоманнскими войнами и участием в них сарматов (2-я пол. II — 1-я пол. III в.). Наконец, «позднеримские» контакты, связанные с импортом сарматами римских изделий, были обусловлены взаимоотношениями между сарматами и федератами империи — в первую очередь готами (2-я пол. IV — нач. V в.) [Симоненко, 2011, 5-160]. Указанное обстоятельство подтверждает, что сарматы, активно контактируя с римским миром, играли активную и агрессивную роль в военных и экономических отношениях с этим миром, так же как позднее, в V в., это делали гунны, распространившие вдоль Дунайского лимеса знаменитый полихромный стиль. Если сарматы и гунны были заинтересованы в бытовых предметах роскоши, драгоценностях и монетах, то римляне периода упадка империи нуждались в сарматских и гуннских наемниках, которые были готовы за деньги защищать одряхлевший Великий Рим и несметные богатства городских куриалов [Лебедева, 1990, 21–30]. Некогда после завоевания Скифии сарматы создали в Северном Причерноморье устойчивые военно-политические объединения. Лидером одного из таких объединений была сарматская царица Амага, воевавшая со скифами во II в. до Р. Х. (Polien. Strat. VIII. 56). Этим же путем следовали гунны после завоевания Северного Причерноморья в 370-е гг.
Ожесточенные войны Римской империи с сарматами продолжались как на протяжении всего периода тетрархии, так и позднее, при Константине Великом и его преемниках. Эти войны были связаны с рядом факторов, важнейшим из которых следует признать перманентную миграцию сарматских племен на Запад в Поду-навье под нажимом некоей более мощной силы, шедшей с Востока. Очевидно, что этой силой могли быть либо аланы, либо гунны, постепенно распространявшиеся по евразийским степям после своего поражения, понесенного от сяньбийцев в конце I в. по Р. Х. Аналогии подобным процессам можно найти в истории кочевников Средневековья и даже кочевников раннего Нового времени. Разница между ними заключается только в более быстрых темпах миграций в Средние века по сравнению с античными миграциями. Например, стремительная экспансия половцев на Запад в сер. XI в., по мнению Д. А. Расовского, была спровоцирована давлением на них Киданьской империи Ляо [Расовский, 1936, 175–192]. Вторжение ойратов в волжские и донские степи в нач. XVII в., с точки зрения А. С. Скрипкина, стало следствием наступления на них восточных монголов [Скрипкин, 2012, 433–438]. В период миграции сарматов на Запад в 1-й пол. IV в. старые племена — языги и роксоланы, очевидно, уже утратили своеобразие и образовали новые племенные союзы, вступая в договоры с германскими племенами, например с квадами. Ранние волны паннонских сарматов, возможно, встали в это время на путь эволюции от кочевого культурнохозяйственного типа к полуоседлому, но были быстро завоеваны новыми кочевыми волнами соплеменников, которые рассматривали любое оседлое население как потенциальный источник рабов и добычи. Так, вероятно, появилось разделение паннон-ских сарматов на сарматов-рабов (или, иначе, сарматов-лимигантов) и пришедших позднее свободных сарматов, которых описывают Евсевий Кесарийский и Аммиан Марцеллин, рассказывая о войнах с сарматами Константина Великого и его сына Констанция II. Аорсы и сирахи еще на рубеже I–II вв. были завоеваны аланами, которые оставались главной военно-политической силой в донских степях и в Предкавказье вплоть до появления там гуннов в 370-е гг. [Altheim, 1969, 57–84].
Благодаря китайским источникам («Ши Цзи») известно, что предшественники аланов, верхние аорсы, во II в. до Р. Х. кочевали у побережья Аральского моря и образовали там кочевое княжество Яньцай [Боровкова, 2001, 360–361]. Возможно, этот термин употреблялся китайцами позднее для обозначения аланов, кочевавших в этом регионе. Хорезмийский историк X в. Аль-Бируни сообщает, что аланы и асы еще в его время кочевали вдоль нижнего течения Амударьи, а изолированные аланские группы фиксировались русскими этнографами в Средней Азии, например в Закаспийской области, даже в нач. XX в. Все это свидетельствует в пользу того, что накануне вторжения гуннов в южнорусские степи аланы-танаиты представляли собой не локальную группу кочевников, сконцентрированную в Северном Приазовье и Придонье, а большой племенной союз, власть которого распространялась на обширные территории от Дона до южноуральских и прикаспийских степей подобно тому, как в XI–XIII вв. эти же территории контролировались половцами (Дешт-и-Кипчак).
До прихода гуннов европейские аланы, вероятно, уже доминировали над носителями черняховской культуры, т. е. над готами. Это доминирование упомянуто Евсевием в рассказе о восстании готов, поднятом с целью свергнуть господство сарматов (Euseb. VC IV. 5–6), и оно запечатлелось в общегерманской эпической традиции. Об этом свидетельствует инкорпорирование легенды об асах и Асгарде в корпус средневековых скандинавских саг, в частности в «Ynglinga saga», записанную в XIII в. исландским скальдом Снорри Стурлусоном (Снорри Стурлусон, 1980, 4). Доминирование аланов в германской кочевой среде сохранялось и позднее, например в вандальском племенном союзе. Как сообщают Ренат Профутур Фригерид в изложении Григория Турского и Идаций, аланские цари Респендиал (Respendial = Ρησπινδίαλος от авест. Spəntoδāta?) и Аддак (Addac) [PLRE 1980: 8, 940; Waszak, 2016, 72–77] в нач. V в. вместе с вандалами нанесли поражение франкам, в 406 г. прорвали рейнскую границу Западной Римской империи, а затем вторглись в Галлию и Испанию (Greg. Tur. Historia II. 9; Hyd. Lem. LXVIII (a. d. 418)). Аланы, по-видимому, возглавляли вандальские кочевые объединения силингов и асдингов, ибо в Испании именно аланы захватили наиболее обширные территории Иберийского полуострова по сравнению с территориями, которые достались силингам и асдингам. Аланы удерживали эти территории вплоть до поражения, понесенного от вестготов в 418 г. и последующего вынужденного подчинения асдингам (Гензериху) [Bachrach, 1973, 51–59; Кулаковский, 2000, 81–122; Кузнецов, Пудовин, 1961, 79-95]. Позднее, в эпоху Юстиниана I (527-565), готы тетрак-ситы, ушедшие на Западный Кавказ и обитавшие в районе Цемесской бухты, принимали участие в войне утигуров против кутригуров [Казанский, 2020, 119]. Не исключено, что готы тетракситы были не только союзниками утигуров, но также сохраняли контакты с аланами, кочевавшими в степях Предкавказья.
Письменные источники не располагают более подробной информацией относительно социально-политической ситуации, сложившейся внутри сарматских племен накануне вторжения гуннов. Нам представляется вполне вероятным, что учащение сарматских набегов на Дунайский лимес Римской империи в кон. III — 1-й пол. IV в. было непосредственным образом связано с усиливавшимся давлением аланов Предкавказья на аланов-танаитов в донских степях и вытеснением аланами-танаитами соседних сарматских племен и готов-«черняховцев» на Запад. Старая дискуссия К. Ф. Смирнова с Яношем Харматтой о существовании сарматской кочевой «империи» или же «конфедерации» уже в I в. до Р. Х. [Смирнов, 1984, 123; Harmatta, 1950, 13; Harmatta, 1970, 12-20] в реалиях IV в. приобретает характер спора о существовании аланской кочевой «империи», за пределами которой находились западные сарматские племена, потомки древних языгов и роксоланов, а также о не менее серьезной проблеме алано-гуннского континуитета [Golden, 2016, 79–107]. Как отмечал А. С. Скрипкин, «В материальной культуре поздних сарматов также просматривается очевидное восточное влияние: мечи с халцедоновыми навершиями и нефритовыми скобами; костяные обкладки луков; ряд типов керамики находит аналоги в Средней Азии. Важными аргументами в этом отношении являются антропологические показатели: увеличение монголоидной примеси и появление искусственной деформации черепов… формирование позднесарматской культуры проходило при активном участии новой волны кочевников, продвинувшихся в степи Восточной Европы из районов Средней Азии» [Скрипкин, 1990, 221].
М. И. Артамонов, Франц Альтхейм, И. П. Засецкая связывали первое упоминание хунну в европейских источниках с Дионисием Периегетом, который писал во II в. о хунну как о народе, обитающем в степях около Аральского моря [Скрипкин, 2010, 28; Артамонов, 1962, 42; Засецкая, 1971, 5]. Но Отто Менхен-Хельфен и его оппонент Л. Н. Гумилев допускали, что упоминание гуннов в тексте Дионисия Периегета есть банальное следствие ошибки позднего переписчика, бывшего современником нашествия гуннов на Европу [Maenchen-Helfen, 1945, 244–252; Гумилев, 1960, 120–125]. Когда гунны впервые появились на военно-политическом горизонте Римской империи в качестве непосредственной угрозы?
Не исключено, что традиционное представление о том, будто наступление гуннов Баламбера в 370-е гг. на аланов и готов было первым масштабным нападением гуннов на римскую периферию, нуждается в пересмотре. Е. А. Мехамадиев предполагает, что сообщение Евсевия о войне правителя Римского Востока Максимина Дазы с армянами в период гражданских войн между тетрархами (Euseb. HE IX. 8. 2) ошибочно и в действительности Максимин Даза направлял свои войска, в частности легион XII Fulminata, на помощь армянскому царю Трдату III (298-330) для отражения нападения гуннов. После разгрома Максимина Дазы Лицинием победитель унаследовал обязательства побежденного. Зимой 313/314 г. полевая армия Лициния, по мнению исследователя, также воевала с гуннами на территории Армении [Мехамадиев, 2015, 111–133]. Малоизвестная армянская кампания Максимина Дазы, а затем Лициния важна в свете гипотезы Е. А. Мехамадиева прежде всего тем, что упоминание Евсевия об этой кампании может быть одним из самых ранних, пусть даже и косвенных свидетельств появления гуннов в пределах Армении и на границах Римской империи.
Точка зрения Е. А. Мехамадиева, впрочем, не бесспорна. Дербентский и Дарьяльский проходы уже были традиционными маршрутами аланских набегов как на восточные провинции Римской империи, так и на Парфию в I-II вв., т. е. задолго до появления гуннов. Наиболее известным из этих аланских набегов является набег 135 г. на Армению и Каппадокию, в отражении которого принимал участие знаменитый наместник Каппадокии Флавий Арриан, автор «Диспозиции против аланов» (Нефед-кин, 2010, 197–212). Если гунны завладели этими маршрутами уже в нач. IV в., в таком случае совершенно необъяснимо, по какой же причине гуннское завоевание аланов-танаитов, а затем и готов Германариха произошло не в 1-й пол. IV в., сразу же после предполагаемого утверждения господства гуннов в степях Предкавказья, а только на семьдесят лет позже.
Аланы Предкавказья благополучно пережили нашествие гуннов. В 558 г. аланский царь Саросий выступил посредником в переговорах между Юстинианом I (527–565) и аварами [Pohl, 1988, 18], следовательно, аланы по-прежнему прочно контролировали в это время наиболее важные ущелья Северного Кавказа. В противном случае аланы не представляли бы собой для Константинопольского двора столь ценных клиентов. В нач. VIII в. Юстиниан II Ринотмет (685–695; 705–711) отправил к аланскому царю Итаксию спатария Льва Исавра, будущего императора, для переговоров о совместных действиях против абасгов и арабов в Закавказье [Speck, 2002, 115-137]. Как справедливо отмечал А. С. Скрипкин, те же самые проходы через Кавказский хребет использовались в нач. XIII в. монгольскими отрядами Субедея и Джэбэ, которые с боями обогнули южный берег Каспийского моря, прошли через Кавказские проходы, вырвались в кубанские и донские степи, где разбили аланов, а затем и русских князей с половцами в битве на реке Калка в 1223 г. [Скрипкин, 2017, 205]. Таким образом, даже спустя много веков после нашествия гуннов аланы сохраняли контроль над степями Предкавказья и, следовательно, за Кавказскими проходами — и удерживали его вплоть до XIII в. Мы предполагаем, что отсутствие в нач. IV в. каких бы то ни было достоверных военно-политических событий в Северном Причерноморье, связанных с гуннами, свидетельствует о том, что противниками Максимина Дазы и Лициния в Армении в 312–314 гг., если принять гипотезу Е. А. Мехамадиева, могли быть аланы Предкавказья. Кавказские ущелья, Дербентский и Дарьяльский проходы станут традиционными маршрутами вторжения гуннов (акациров) в восточные провинции Римской империи значительно позже, только начиная с 395 г. [Гадло, 1979, 17–19], что, вероятно, было связано с временным ослаблением аланов Предкавказья. Следует признать, что предположение Е. А. Мехамадиева основывается на достаточно произвольной критике текста Евсевия, при которой совершенно необоснованно игнорируется религиозный фактор, определявший отношение к армянским христианам Максимина Дазы. С таким же успехом можно допустить, что Евсевий был прав, Максимин Даза начал войну против армянского царя, следуя своему антихристианскому политическому курсу, а если кочевники, например аланы, и играли в этом конфликте какую-то роль, впрочем, никак не упомянутую Евсевием, то, скорее всего, они воевали против римлян на стороне Трдата.
Экскурс Аммиана Марцеллина в этнографию аланов, в отличие от его гуннского экскурса, был, по выражению М. И. Ростовцева, составлен «по литературным трафаретам» [Ростовцев, 1925, 83] и может быть использован для характеристики практически любого древнего кочевого народа представителями греко-римской культуры. С точки зрения исторической этнографии этот экскурс крайне мало информативен, что существенным образом усложняет нашу задачу. Как показал Августин Алемань, значительная часть этнонимов и характеристик, упомянутых историком в связи с аланами, была просто заимствована им у Геродота, Птолемея и у других древних авторов [Alemani, 2000, 32-42], поэтому большая часть информации Аммиана об этнополитической ситуации, сложившейся в Северном Причерноморье к нач. 370-х гг., во многом совершенно не адекватна своему времени. Намного большую ценность имеет фраза, вложенная историком в уста императора Юлиана в период его персидского похода. Юлиан говорит, что аланы представляют собой древних массагетов: «Не стану говорить о Лукулле или Помпее, который, пройдя через земли албанов и массагетов (которых мы называем теперь аланами), разбил и это племя (персов) и видел Каспийское море» (namque ut Lucullum transeam vel Pompeium, qui per Albanos et Massagetas, quos Alanos nunc appellamus, hac quoque natione perrupta vidit Caspios lacus (Amm. Marc. XXIII. 5. 16)). Таким образом, Аммиан Марцеллин сообщает важную информацию об этническом и культурном родстве и преемстве, существовавшем между древними массагетами западной части Средней Азии (восточного Прикаспия) и современными ему аланами.
Сведения о массагетах, популярные среди римской образованной публики IV в., восходили к Страбону и Геродоту и были в известном смысле обобщены Евсевием. Как отмечает Евсевий со ссылкой на устное предание (ἱστοροῦνται), массагеты и дербики полагали несчастными тех своих родственников, которые умирали естественной смертью, и поэтому закалывали стариков и употребляли в пищу (Euseb. Praep. Evang. I. 4. 7). Подобное сообщение Евсевия повторяет аналогичные известия Геродота и Страбона (Hrdt. I. 216; Strab. XI. 8. 6), которые также уличают массагетов в геронтоциде и эндоканнибализме. Дербики были во времена Геродота одним из племен массагетской конфедерации и принимали участие в войне против Кира Великого под командованием царицы Томирис [Пьянков, 2013b, 465–492; Щеглов, 1998, 114–118; Немировский, 2005, 217–224]. Обычай геронтоцида действительно зафиксирован у некоторых примитивных народов, причем не только в древности. В частности, Прокопий Кесарийский рассказывает о существовании геронтоцида в его эпоху (1-я пол. VI в.) у восточно-германского племени герулов (Procop. BG II. 14), которое сыграло определенную роль во вторжении гуннов в Европу. Случаи геронтоцида, часто связанные с магическими практиками, зафиксированы даже в Российской империи в XVIII — 1-й пол. XIX вв., например у крестьян Глуховского уезда Черниговской губернии [Литвинова, 1885, 354–356]. Однако в среде сарматских племен и гуннов подобный обычай, по-видимому, не известен.
Социальная история сарматов, и в частности аланов, позволяет исследователю привлечь широкий географический материал от Подонья и южнорусских степей в целом до Кавказа и Средней Азии [Вдовченков, 2017, 89-128]. Поэтому социальная организация аланских племен, сохранявших доминирующее положение в степях вплоть до появления гуннов, в известной степени может помочь представить основные тенденции социального развития гуннов в этот период. Как уже отмечалось, вторжение гуннов (хионитов) в Кушано-Сасанидское царство в 350-х гг., в сущности, осуществлялось по тем же маршрутам, по которым некогда происходило вторжение родственных аланам сакских племен в Греко-Бактрийское царство и позднее самих аланов в Парфию. Параллельно происходила языковая и культурная иранизация гуннов под аланским влиянием — подобно тому, как господство хунну в Китае в 1-й половине IV в. привело к быстрой китаизации кочевой элиты. Примером подобной культурной и языковой китаизации, которая, впрочем, не предполагала разрыв со своими соплеменниками, служит биография Лю Юаня (Юань-хая 劉淵; †310), талантливого полководца и шаньюя, первого хуннского императора созданного им государства Северная Хань [Гумилев, 1974, 46–53]. Учитывая влияние на гуннов ираноязычного племенного субстрата в процессе миграции остатков хунну из Монголии в приуральские, а затем и в приволжские степи, мы имеем достаточно оснований для вывода о том, что аналогия между социальными структурами аланов и гуннов способствует лучшему пониманию причин экспансии гуннов, направленной как в Среднюю Азию и Бактрию (в 350-е гг. хиониты, позднее, в V в., кидариты и эфталиты), так одновременно и в западном направлении: за Волгу и вплоть до Паннонии.
Наиболее распространенная гипотеза аланского этногенеза, встречающаяся, в частности, в работах А. С. Скрипкина, предполагает, что аланы выделились из племенного союза верхних аорсов, но при этом развитие аланского племенного союза не следует прямолинейно отождествлять с распространением позднесарматской (ши-повской) археологической культуры [Скрипкин, 2010, 26–30]. Сообщение Аммиана Марцеллина о том, что аланы — это «древние массагеты» или «бывшие массагеты» (Amm. Marc. XXXI. 2. 12–25), свидетельствует о глубоких связях аланского племенного союза с кочевыми племенами Средней Азии и подтверждает надплеменной характер аланской общности [Скрипкин, 2017, 239–244]. Мы полагаем, что изначально аланы не были субэтнической группой, которая отличалась бы по языку и культуре от верхних аорсов, но представляли собой социальное объединение сарматских воинов-изгоев. Возможно, с этим был связан ряд специфических черт, привнесенных аланами как в позднесарматскую культуру, так и в гунно-сарматскую культуру, выделяемую С. Г. Боталовым на материалах памятников Южного Урала и Южной Сибири, например обычай искусственной деформации черепа [Скрипкин, 2017, 236– 239]. А. С. Скрипкин в связи с этим отмечает, что «скорее всего, общество позднесарматской культуры представляло собой палеосоциум, ориентируемый кроме кочевого хозяйства на военное дело» [Скрипкин, 2017, 236], что в равной степени справедливо для характеристики как аланов, так и гуннов.
Изгои представляли собой выходцев из различных сарматских и сакских племен, но были объединены общей бедой и общим языком, возможно, особым военным жаргоном, аланским наречием, имевшим ряд диалектальных отличий от языка верхних аорсов. Таким образом, первоначально аланы представляли собой не этническое, а социально-профессиональное объединение нукеров, иными словами — дружину, которая объединялась вокруг военного вождя, царя, хана и по мере усиления за счет грабежей и притока новых сил меняла сложившуюся военно-политическую, а затем и этническую реальность. Аланы в эпоху Арриана были столь же грозной силой на границах римской периферии, какой до этого были дахи Аршака, роксоланы Амаги [Ростовцев, 1915, 58] или аорсы времен Фарзоя и Имисмея [Тохтасьев, 2013, 565–607; Виноградов, 1994, 151–170]. Ряд наблюдений свидетельствует о том, что ранние гунны, кочевавшие в прикаспийских степях, воспроизводили дружинную организацию, существовавшую у аланов, вокруг которой формировалась социальная кочевая среда «chiefdom». В частности, армянский историк Фавстос Бузанд сообщает о нападении массагетского царя Санесана на Армению в правление Хосрова III Котака
(330-338), предположительно в 335 г. Санесан объединил вокруг себя дружины окрестных племен, в частности гуннов и аланов, для успешного нападения на Армению, которое закончилось для него весьма плачевно [Langlois, 1867, III, 7].
Очевидно, Грумбат представлял собой как раз такого же военного вождя, полевого командира хионитов, каким был царь массагетов Санесан и каким будет впоследствии гуннский вождь Баламбер. Дружинная культура гуннов, которая отражала характерную для них, так же как и для аланов, социальную организацию, превращала гуннские конные отряды, оснащенные первоклассным оборонительным и наступательным вооружением, а также мощными бронебойными луками с костяными накладками, в важный военный козырь для любого, кто этими дружинами в данный момент располагал. Специалисты в области истории вооружения кочевников евразийских степей полагают, что в общем и целом комплекс вооружения азиатских гуннов представлял собой новый этап в развитии вооружения и доспеха, известного благодаря кангюй-ским памятникам или памятникам кенкольской культуры [Никоноров, 2003, 120–135, 185-231]. Общие вид и конструкция доспеха азиатских гуннов, по-видимому, напоминали доспехи сакских всадников на Орлатской пластине. Длинные мечи гуннов связаны своим происхождением с военной традицией Ирана и Центральной Азии. В гуннских погребениях иногда попадаются мечи китайского образца [Засецкая, 1994, 23–40], выменянные на скот в хуннских государствах Китая или захваченные в бою. Как отмечает И. П. Засецкая, исследование типов гуннских наконечников стрел показывает, что ни один из них не имеет корней в местном алано-сарматском комплексе вооружения, но каждый из этих типов связан своим происхождением с Центральной Азией [Засецкая, 1994, 39]. Впрочем, нельзя исключать также определенной доли влияния алано-сарматского комплекса вооружения и тактики на европейских гуннов во 2-й пол. IV в. [Хазанов, 1971, 91–94; Симоненко, 2009, 252–254]. Как полагает В. П. Никоноров, военное искусство и вооружение европейских гуннов после покорения ими южнорусских степей и паннонской равнины эволюционировало под влиянием завоеванных гуннами германских племен. Впрочем, основной принцип военного искусства гуннов, предполагавший наличие и использование крупных масс конницы, вооруженной дальнобойными луками, изменений не претерпел до гибели Аттилы [Никоноров, 2002, 223–317]. Вместе с тем очевидно, что среднеазиатские гунны-хиониты, скорее всего, традиционно поставляли в сасанидскую армию контингенты латников — катафрактов. Это обстоятельство и позволило Аммиану Марцеллину оставить нам краткий, но запоминающийся портрет храброго хионитского царя Грумбата, восседавшего на великолепном коне рядом с Шапуром II: «Рядом с ним [Шапуром] с левой стороны ехал Грумбат, новый царь хионитов, человек средних лет, уже покрытый морщинами, правитель выдающегося ума и прославленный множеством побед» (Quem iuxta laevus incedebat Grumbates Chionitarum rex novus aetate quidem media rugosisque membris sed mente quadam grandifica multisque victoriarum insignibus nobilis (Amm. Marc. XVIII. 6. 22.)); «И вот, как только рассвело, царь хионитов Грумбат, взявший на себя проведение переговоров, смело приблизился к стенам, окруженный отборным отрядом телохранителей. Когда опытный наводчик одного орудия заметил, что он находится в поле его обстрела, то натянул свою баллисту и пробил выстрелом панцирь и грудь юному сыну Грумбата, находившемуся рядом с отцом. Высоким ростом и красотой этот юноша превосходил своих сверстников» (Ideoque cum prima lux advenisset, rex Chionitarum Grumbates fidenter suam operam navaturus tendebat ad moenia cum manu promptissima stipatorum, quem ubi venientem iam telo forte contiguum contemplator peritissimus advertisset, contorta ballista filium eius primae pubis adulescentem lateri paterno haerentem thorace cum pectore perforato perfodit proceritate et decore corporis aequalibus antestantem (Amm. Marc. XIX. 1. 7)).
В заключение отметим, что реконструкция политической истории хионитов и гуннов накануне их вторжения в пределы «державы» Германариха, описанного Аммианом Марцеллином в заключительной части его сочинения, определенно позволяет судить о военно-политических связях гуннов со среднеазиатскими хионитами
(даже если эти народы не были в полной мере тождественны), а также подтверждает значительную роль аланов в становлении гуннской кочевой «империи». Более поздняя история гуннов времен Аттилы подтверждает подобные связи, ибо только среднеазиатские кочевники могли быть передаточным звеном в процессе рецепции гуннской придворной знатью сер. V в. политических традиций Сасанидского двора, в частности персидских титулов, которые были неоднократно отмечены исследователями [Altheim, 1962, V, 193–242; Шувалов, 2001, 130–145].