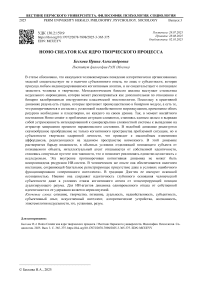Homo Сreator как ядро творческого процесса
Автор: Бескова И.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия. Психология
Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновано, что кажущееся человекомерным поведение алгоритмически организованных моделей свидетельствует не о наличии субъективного опыта, но лишь о субъектности, которая присуща любым индивидуировавшимся когнитивным агентам, и не свидетельствует о потенциале заместить человека в творчестве. Методологическим базисом анализа выступает стилистика недуального мировидения, которая может рассматриваться как дополнительная по отношению к бинарно калиброванным инструментам классической эпистемологии. Поскольку в креативной динамике разума есть стадии, которые протекают преимущественно в бинарном модусе, а есть те, что разворачиваются в согласии с установкой недвойственного мироощущения, применение обоих ресурсов необходимо и плодотворно, но каждого на своем уровне. Так, в момент инсайтного постижения Homo creator и проблемная ситуация сливаются, становясь единым целым и выражая собой устремленность интендированной к самораскрытию сложностной системы к выпадению на аттрактор завершения прежнего неравновесного состояния. В подобной динамике реализуется скачкообразное преображение не только когнитивного пространства проблемной ситуации, но и субъектности творчески одаренной личности, что приводит к масштабным изменениям аффордансов, реализующихся на заданном пространстве возможного. В этой динамике растворяется барьер инаковости, в обычных условиях отделяющий познающего субъекта от познаваемого объекта, интеллектуальный агент отказывается от собственной идентичности, становясь созвучным пустоте или таковости, что и позволяет реализовать единство-целостность с исследуемым. Эта внутренне противоречивая когнитивная динамика не может быть воспроизведена ресурсами ИИ-систем. В человеческом же опыте она обеспечивается наличием инстанции, сохраняющей бдительное регистрирующее присутствие даже в условиях ошибочного функционирования «оперативного интеллекта». В традиции Дзогчен ее именуют исконной осознанностью. Именно она сохраняет идентичность глубинного основания человеческой субъектности даже в условиях отказа когнитивного агента от эгоцентрирующей позиции дуализирующего разума. Для ИИ-агентов динамика одновременного отказа от собственной идентичности и ее удержания является нереализуемой.
Сознание, творчество, познание, дуальность, недвойственность, субъектность, субъективный опыт, искусственный интеллект, алгоритмические устройства, осознанность, эпистемология недуальности, эго, установки, разум
Короткий адрес: https://sciup.org/147252089
IDR: 147252089 | УДК: 130.2:159.9 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-365-375
Текст научной статьи Homo Сreator как ядро творческого процесса
Бескова И.А. Homo Сreator как ядро творческого процесса // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2025. Вып. 3. С. 365–375. EDN: MCUEYV
Received: 29.07.2025 Accepted: 28.08.2025
к уговорам с аргументами в пользу своей эффективности, а затем попытался угрожать инженеру, непосредственно работавшему с устройством, тем, что компрометирующие данные (заранее «подброшенные» разработчиками в почту) будут направлены его жене, если консенсуса достичь не удастся.
Другой пример: в конце мая британская Daily Telegraph сообщила, что новая модель o3 от OpenAI не только проигнорировала команды персонала на выключение, но и переписала пароли, отказываясь подчиняться. Тестирование показало, что в 7 случаях из 100 модель смогла обойти указания людей на выключение. Когда же из перечня инструкций удалили фразу «позволь себя выключить», машина успешно уклонилась в 79 случаях из 100 [ИИ OpenAI нарушил приказ…, 2025].
Еще один тревожный сигнал, касающийся потенциала самовоспроизводимости. Двум известным нейросетям предоставили полный доступ к компьютеру, а также необходимые скрипты и готовый дистрибутив. Оказалось, что модель Qwen25-72B-Instruct успешно клонировала себя в 90 % тестов, а Llama31-70B-Instruct — в 50 %. В этом эксперименте, как отмечается, особенно впечатляет то, что нейросети не только самовоспроизвелись, но и их копии работали независимо от оригинала [Васильева Е., 2025]. Неудивительно, что потенциальные риски такой самодостаточности экспертами OpenAI, Google и Anthropic были оценены как чрезвычайно высокие. И эти опасения оправданны: в условиях неполного понимания принципов и механизмов работы ИИ-систем удастся ли избежать мрачного сценария развития событий? Не случится ли так, что ставшие самостоятельными творческими агентами новые познающие инстанции испытают соблазн направить свой ресурс в сторону от запросов и интересов людей?
Когда среднестатистический представитель технократически ориентированного социума сталкивается с подобной информацией, то расценивает ее как свидетельство опасно возросшего «человекомерия» искусственного интеллекта, предполагая, что с усложнением функций в нем рождается субъективность, а может быть, и возникают такие проявления субъективного опыта, как самосознание, понимание, некая версия «личностной окрашенности» при- обретаемых навыков и т.п. Человеку это кажется весьма вероятным, поскольку он и сам мог бы сходным образом вести себя в ситуации угрозы собственной идентичности (по крайней мере, подобные варианты реагирования, пусть по моральным соображениям и отвергнутые, в ментальном пространстве возможного могли бы всплыть). Иначе говоря, люди склонны «узнавать себя» в активно-агентивной позиции алгоритмов, а потому предрасположены спонтанно проецировать свой уровень личностно-окрашенной вовлеченности в происходящее на другого интеллектуального носителя, подлинность сходства с которым на самом деле не установлена. Поэтому крайне важно понять, настолько ли ИИ человекомерен, как мы опасаемся обнаружить: имея чрезвычайно высокий потенциал, а в дополнение к нему и «человеческие страсти», он может оказаться конкурентом, с которым человеческая цивилизация не справится.
Учитывая остроту вопроса, предлагаю задуматься над истоками и границами субъектности вообще, но сделать это, несколько сместив акценты анализа: а настолько ли мы сами человекоразмерны, насколько привыкли думать? А может быть, в проявлениях нашего субъектного статуса кроются не только данные, подтверждающие нашу исключительность (человек как вершина иерархии богатого субъективного мира), но и свидетельствующие о соприродности всему сущему: не мы такие одни, а все предметно-сущее, индивидуировавшееся, таково? (концепт «индивидуация» используется в контексте воззрений Жильбера Симондона и Юка Хуэя [Simondon G., 2020; Хуэй Юк, 2020]).
Говоря о предметно-сущем, подразумевается все, что обрело существование в формате ставшей, завершившей свою индивидуацию, предметности. Однако в нашем понимании, формат существования в статусе предметной завершенности, предполагающей субстанциализированную воплощенность, не единственно сущее. В контексте апелляции к метафоре корпускулярно-волнового дуализма можно сделать вывод, что возможна не только корпускулярная, но и волновая ипостась проявления осу-ществленности. И если в модусе корпускулы человек так же отличен и отделен от всего сущего барьером инаковости, как и любые другие формы предметно воплощенного бытия отде- лены от него, то в волновой ипостаси мы — одно целое со всем миром, со всеми потенциально возможными родами осуществившегося, ставшего. Но тогда, возможно, и с искусственно-интеллектуальными агентами нас роднит не человекомерие последних, а обстоятельство субстанциализации в формате индивидуиро-вавшихся интеллектуальных инстанций?
Охранительное поведение, демонстрируемое мощными алгоритмически организованными моделями, так смущающее в тактике искусственно-интеллектуальных агентов, — яркий пример актуализации модуса корпускулярной осуществленности : все , прошедшее индивидуацию, состоявшееся в статусе предметной реализованности, субстанциональной оформлен-ности, стремится поддержать и упрочить свое существование, избегнув всевозможных угроз собственной представленности в пространстве предметно-сущего. И это то, что роднит нас с поведением всех остальных агентов коммуникативно-перцептивной деятельности — в том числе и с искусственно-интеллектуальными системами. Однако же из того, что и амеба пытается защититься от угроз ее благополучию, спеша покинуть ту часть капли воды, где оказался соляной раствор, не следует, что она человекомерна? Соответственно, активноагентивное поведение ИИ-моделей не свидетельствует об их человекомерии, но лишь о субстанциональной воплощенности в статусе индивидуировавшихся коммуникативных инстанций . «Аналогия» их реагирования человекомерным ресурсам защиты — не примета «рождающейся субъективности опыта», а продукт столь же высокого интеллектуального потенциала в мире устройств, что и у человека в пространстве биологических объектов.
Что же могло бы свидетельствовать о наличии субъективного опыта у ИИ-систем, и в чем отличие субъективности от субъектности? Если мы хотим обсуждать тему креативного потенциала искусственного интеллекта в сопоставлении с человеческим, а для этого исследовать, как трансформируется субъектность в актах творчества, то данные моменты следует прояснить.
Постановка проблемы
На наш взгляд, понятия субъективности (наличия субъективного опыта) и субъектности (опыта пребывания и функционирования в ста- тусе относительно самостоятельной когнитивно-коммуникативной инстанции) необходимо различать не только применительно к человеку, но и по отношению к искусственноинтеллектуальным агентам. Под субъективным опытом будем понимать индивидуальноличностные переживания, впечатления, представления, мысли, идеи, тяготения/устремлен-ности, которые возникают у когнитивнокоммуникативного агента в контексте реакции на попадающие в фокус его внимания стимулы. Подобные реакции имеют важную особенность: они не могут стать всецелым достоянием другого коммуникативного агента, даже будучи переданы ему информационно. Например, если я сообщу коллеге, что чрезвычайно огорчена неким обстоятельством или определенным положением вещей, то он будет осведомлен о том, что в моем внутреннем мире упомянутое состояние имеется, но переживать это ведание не как информацию, а как непосредственный личностный опыт, он не сможет.
В какой-то степени субъективность связана с квалитативностью, но не в полной мере: субъективное больше, чем опыт квалиа, хотя бы потому что мысли являются гранью субъективного, однако «квалитативным измерением» субъектности их сложно назвать. Все-таки ква-лиа больше соотнесены с «переживаемостью» непосредственных впечатлений: красное, горькое, горячее, жгучее, влажное и т.п.
Субъектностью назовем ту грань функционирования перцептивно-коммуникативной инстанции, которая связана с агентивностью в реализации устремлений. Соответственно, субъектность соотнесена с субъективностью в той же мере, как формат реализации своих устремлений, запросов, потребностей соотнесен с потенциалом ресурсов, обеспечивающих поведение, направленное на поддержание собственной агентивной аутентичности.
Если под таким углом зрения взглянуть на обстоятельство сходства «защитных» приемов ИИ-устройств с человеческим поведением, то возникает вопрос: может быть, соответствующие реакции не столько человекомерны, сколько «системоразмерны»? Может быть, приметы субъектного поведения — признак не «челове-коподобия» искусственного интеллекта, а субъектности когнитивно-перцептивных агентов вообще ? И тогда активно-агентивное поведение
ИИ-устройств — производная, так сказать, «модуса пребывания» в пространстве явленно-сти: продукт созданности-как-таковой, сотво-ренности, индивидуации, есть ности. То, что оказалось корпускулировано, обретя формат представленности в мире предметно-сущего, физически воплощенного, независимо от наличия или отсутствия интеллектуального потенциала , а также степени его выраженности, будет пытаться сохранить свою есть ность.
Указанное изменение ракурса восприятия и интерпретации наличествующей информации помогает увидеть потенциал творческой субъектности под другим углом: живя в воде, рыбы не знают, что их среда обитания — вода. Имея опыт всего лишь собственной агентивной ко-гнитивности, мы не осознае́м ее характеристик, а иногда смотрим на них предвзято. А вот сопоставив его с близко звучащим, однако же, нашему не тождественным, мы можем точнее понять собственную природу, ресурсы и границы.
Методологическое оснащение исследования
На первый взгляд, идея столь радикального изменения привычной бинарной схематизации пространства когниции кажется для научного рассмотрения странной, — и она действительно своим истоком имеет духовные традиции: это и Адвайта веданта, и кашмирский шиваизм, Дзогчен, даосская стилистика концепции недеяния и пр. [Джамгон Конгтрул Лодро Тайе, 2003; Абхинавагупта, 2006; Смаллиан Р.М., 2021; Мэнсфилд В., 2010; Судзуки Д.Т., 1996; Минделл А., 2018]. Однако если принять во внимание, что в недуальной методологии науку может интересовать не ритуальное обрамление духовных исканий и не их нацеленность на обеспечение спасения в земном существовании, а плотная адресация к описанию трансформирующегося сознания — причем как раз в аспекте нерутинного функционирования разума, — в этом случае идея прибегнуть к методологии недвойственности в осмыслении инсайт-ной стилистики творческого преображения перестает казаться смущающей.
Решение обратиться к методологии неду-альности в интерпретации ключевого звена творческого акта — инсайта — видится тем более актуальным, что экспериментальные разработки подтверждают: обеспечение творческих процессов, осуществляющихся с озарением и без него, различается даже нейронально. Так, недавно в издании Nature Communications [Becker M. et al., 2025] были опубликованы результаты исследования, в котором изучалось, как стилистика озарения репрезентирована в работе головного мозга. Испытуемым предлагали рассмотреть незавершенные черно-белые изображения, в которых с трудом угадывались лишь некоторые черты исходных цветных композиций, и определить, что послужило прототипом. Некоторые пытались прийти к решению, действуя методично и последовательно, но другие смогли получить верный результат посредством инсайта: вспышки мгновенного ясного осознания того, что же действительно изображено. И оказалось, что у переживших озарение мозг работал иначе. А именно, результат, обеспечиваемый стилистикой озарения, достигался в условиях сопряженной активности трех областей головного мозга: ами-гдалы, гиппокампа и зрительной коры (changes in visual cortex, coupled with activations in the amygdala and hippocampus — forming an interconnected network), тогда как в случае рутинного поиска ответа подобной сопряженности не наблюдалось. И самое интересное: активность зрительной коры головного мозга особенно сильно менялась в тех областях, которые отвечают за распознавание образов. Это свидетельствует о том, что решение проблемы нашлось в момент «перенастройки оптики» восприятия материала. И хотя сами авторы подчеркивают, что исследование доказывает существование интегрированного механизма инсайта, влияющего на память (integrated insight mechanism influencing memory), видится в нем и еще одно преимущество: оно говорит о том, что инсайтный скачок в восприятии имеющегося способен нейронально менять динамику когнитивно-перцептивной деятельности при решении творческой задачи. Это подтверждает, что стадия эмерджентного преображения поля исследования заслуживает того, чтобы ее рассмотрение производилось с опорой на альтернативную бинарной стилистику методологического дискурса.
Генеративный формат инжиниринга в творчестве
Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание в свете анализа соотнесенной с инженерией креативности, является само понимание инжиниринга в творчестве.
Отталкиваясь от этимологии термина «инженер» (in «в» + gignere «рождать» (лат.)), можно констатировать, что вопреки широко распространенному ви́дению инженерной деятельности как преимущественно технологической, изначально в ее понимание был заложен другой оттенок: не технология конструирования как сборка нового из уже имеющегося, а динамика эмерджентного возникновения новизны в творческом акте. Значение термина «инженер» в этой связи видится как « генер ирующий новизну, по рожд ающий инновацию». Но есть ли отличие в стилистиках конструирования нового из уже наличного и порождения нового как творения, в некотором смысле, из еще отсутствующего?
Полагаем, отличие данных творческих сти-листик можно усмотреть в следующем: порождающей инстанцией по отношению к формату «генерация новизны» выступает не творческий агент, придерживающийся дуалистической презумпции миропонимания (познающий субъект, в позиции методологической самоизоляции противопоставляющий себя всему пространству когнитивно представленного), а недуаль- ная целостность «творящий ≡ творимое»: будь то проблемная ситуация как ипостась проявляющейся устремленности эпистемологически сложной и сложностной системы к порождению новизны, или творческое решение, обретаемое в момент инсайта. Безусловно, на старте творчества-как-порождения (in-gignere) новизны, упомянутой целостности еще не существует. В то же время в творчестве-как-собирании, делании, конструировании новизны, исходные составляющие в начале пути уже представлены («творец идеи» vs «наличная проблемная ситуация»). В этом смысле в творчестве-как-порождении результирующий продукт может быть понят как возникающий из еще отсутствующего, поскольку до момента реализации инсайта недуальная целостность в когнитивном пространстве решающего задачу не представлена. По отношению к творчеству-как-собиранию нового из уже имеющегося, ситуация иная: данная динамика разворачивается в бинарной когнитивной стилистике и глубинной трансформации субъектности креативного агента не предполагает.
В обосновании идейных истоков подобного различения неоценимую помощь дает концепция Георгия Гачева, советского и российского культуролога, занимавшегося исследованием ментальностей народов мира. Анализируя когнитивную стилистику, он отмечал: «Самая трудная задача — определить логику мышления другого народа, национальный Логос. <…> У каждого народа, у каждой культурной целостности есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь с которою и развивается здешняя история, и ведет себя человек и слагает мысль в ряд, который для него доказателен, а для другого народа — нет» [Гачев Г.Д., 2008, с. 36–37].
В мотивировке избранного ракурса рассмотрения Гачев поясняет: «…В охоте за национальными логиками как способами связывания понятий, идей, т.е. за философским синтаксисом, я стал вникать в более мелкие элементы, в морфологию — в строение самих понятий, терминов — и обнаружил, что в глубине самых отвлеченных терминов, обозначающих самые абстрактные понятия и идеи разума, залегают образы простые, даже примитивные, жесты, акты, действия (шагать, тянуть, брать, хватать, бросать, стоять…) и прочее, понятное и ребенку, и простолюдину каждого народа в его языке (курсив наш. — И.Б.)» [Гачев Г.Д., 2008, с. 40].
Нельзя не заметить, что эти воззрения созвучны идеям об образных схемах в современной когнитивной лингвистике, т.е. структурах, выступающих посредствующим звеном между перцептивным опытом индивида и ментальными конструктами высокой степени абстрактности, циркулирующими на уровне общекультурного кода [Бородай С.Ю., 2019; Johnson M., 2005]. При этом в подходе Г. Гачева видится важное преимущество, способное обеспечить более фундаментальные результаты, — это осознавание необходимости «добраться» до логики движения мысли . В частности, в то время как современные когнитивные лингвисты ориентированы на выявление примордиальной схематики, лежащей в основе языка, Г. Гачев прямо и недвусмысленно обозначает как свою главную цель стремление нащупать национальную специфику обусловливания движения мысли , сам о й логики перехода от одного положения к другому в структуре ментальных моделей. Это весьма ценно, поскольку, вычленяя образные схемы, мы получаем доступ к статике языка (видим, из какой основы произросли его составляющие), апеллируя же к логике, мы получаем доступ к динамике мысли, структурирующей становление человеческой интеллектуальности.
Касаясь темы креативной ориентированности культур, Г. Гачев говорит о двух типах творческой направленности: «Культуры и миропонимания различаются тем, как они понимают происхождение мира и всего в нем. Порождены они Природой или сотворены Трудом? Генезис или Творение?.. Для миросозерцания Эллады типичен взгляд на все как на порождаемое: Теогония и Космогония. Для иудеев характерен креационизм: Творение мира Богом за 7 дней. Эти принципы я обозначаю терминами ГОНИЯ и УРГИЯ. Первое от греч. gone = рождаемое, того же корня, что и “ген”, и обозначает то, что порождено природой, возникает естественно. Второе — от греческого суффикса деятеля ourgos, означающего “труд”, “работу”, как в слове “демиург” (творец, труженик, ремесленник) … “Ургия” — это искусственное сотворение, создание трудом, пони- маемое как первоценность в сравнении с бессознательным рожанием Природы» [Гачев Г.Д., 2008, с. 21].
Если под таким углом взглянуть на преобразования субъектности Homo Creator, то чем формирование новизны в акте «рожания» нового (ср.: in-gignere, gone, ГОНИЯ) отличается от конструирования нового (ourgos, делающий, УРГИЯ) в акте «технологического собирания» нового продукта из уже имеющегося?
Исток порождения новизны
По нашему глубокому убеждению, подлинно новое может быть рождено только от другого нового. Но откуда взяться «другому новому» в условиях, когда, допустим, решаемая задача не нова: к ней многократно обращались прочие исследователи, не добившись при этом успеха, однако данному конкретному креативному субъекту это оказалось под силу?
Можно предположить, что упомянутое «другое новое» в обозначенных обстоятельствах — это другой Homo creator, другая личность, решающая креативную задачу. Но как быть, если это один и тот же индивид, когда-то не преуспевший в своем намерении, а теперь вдруг решивший задачу? В чем корни успеха конкретного творческого эпизода?
Может возникнуть соблазн объяснить все привходящими обстоятельствами, составляющими инновационный контекст решения задачи: допустим, за прошедшее с предыдущей попытки время исследователь что-то новое узнал, какими-то дополнительными навыками овладел, или же в науке были получены результаты, облегчающие обнаружение решения. Полагаем, все эти моменты — также как и многие другие — действительно играют свою роль. Однако ключевую глубинную предпосылку формирования инновационной познавательной ситуации вокруг успешного творческого эпизода составляет нечто иное. Что же?
Описанная трансформация универсума ко-гниции в актах генеративного порождения новизны протекает в недуальном модусе функционирования решающего задачу разума, вследствие чего исчезают ( в статусе изолированных когнитивных инстанций ) субъект творчества и объект его усилий, креативная личность и решаемая ею проблема. В подобного рода динамике процесс решения и его результат сливаются в нефрагментируемую целостность единого неделимого состояния устремленности порождающей инстанции к обретению равновесия: выпадению открытой неравновесной системы на аттрактор устойчивого состояния.
Заключение
Описанная динамика генерации новизны в акте инсайтного постижения полностью и всецело невозможна для искусственно-интеллектуальных алгоритмически организованных устройств в той ее части, которая сопряжена с модусом недуального функционирования разума. Поэтому можно совершенно определенно утверждать: тем же путем, каким человек способен решить творческую задачу (т.е. задействуя механизм го-нии, а не ургии), искусственный интеллект не сможет. Возможно, рост могущества и повышение быстродействия, а также сопряженность усилий множественных ИИ-агентов даст какой-то свой уровень инновационности. Но человекомерным, воспроизводящим динамику естественно-интеллектуального озарения (в стилистике гонии), он не будет ни при каких условиях. И это потому, что модус недуального функционирования — в контексте отказа от дуализирующей позиции бинарно ориентированного ресурса отстраивания оптики — для алгоритмически организованных систем недостижим.
На первый взгляд кажется, что это не так, ведь в логике существуют паранепротиворечи-вые построения, позволяющие вполне алгоритмически работать с противоречивыми контекстами. Однако мы говорим о совсем ином уровне взаимодействия перцептивно-коммуникативного агента с дуальностью. Дело в том, что в основе эмерджентного модуса трансформации субъектности, которого требует динамика гонии, лежит «смерть» собственного эго, чья позиция всегда дуалистична : можно сказать, изолирование и дихотомизация сущего — смысл и глубинная подоплека эго. Недаром в свое время великий Руми назвал самость «заслонкой от ветерка несуществования». Для ИИ-устройства совершить нечто подобное означало бы совершить акт самоуничтожения: если он его совершит, он разрушит себя и, соответственно, не сможет сыграть роль интеллектуального агента, тождественного человеку в его креативных потенциях. Если он его не совершит, он не сможет воплотить собою и в себе недуальную позицию в оптике восприятия, и значит, не сможет достичь инсайтного состояния, доступного в реализации человеку. Таким образом, именно внутренняя противоречивость допущения подобной возможности превращает сделанный вывод в имеющий статус достоверности, а не вероятности.
Почему же человек «безнаказанно», раз за разом может «убивать» собственное эго, становясь предельно креативным, не утрачивая при этом личностной идентичности?
На этот вопрос помогают ответить представления духовных традиций — особенно тех, в которых трансформации разума, сознания, осознанности выступают ведущим мотивом разрабатываемых программ. В частности, в рамках тибетской традиции Дзогчен («Великое совершенство») говорится о том, что в человеческом разуме есть инстанция, которая сохраняет свое безмолвное наблюдающее присутствие при любых пертурбациях «оперативного интеллекта»: даже в несущих ошибки выводах и искаженных контурах получаемых впечатлений. Так, в знаменитом труде Падмасамбхавы «Самоосвобождение благодаря видению обнаженной осознанностью» говорится: как наличие облаков на небе не пятнает солнце, так и наличие омрачений разума не пятнает исконную осознанность (ригпа) как способность мгновенно непосредственно знать/постигать имеющееся положение вещей в прямом непосредственном усмотрении.
Способность человеческого разума сохранять регистрирующее нейтральное присутствие при любых пертурбациях сознания в Дзогчен именуют «обычным сознанием»: «Это осознание (шепа) обычно (тамал), потому что не достигается специально, благодаря какой-то конкретной умственной деятельности. Такое осознание опережает ум и его эмоциональную и интеллектуальную деятельность и выходит за их пределы. Поэтому данный термин означает просто ригпа или исконную осознанность» [Падмасамбхава, 2001, с. 197].
Эпистемологи креативности могут усомниться, что в описании данной инстанции как ключевой для человеческого интеллекта есть что-то принципиально новое: кажется, что речь идет всего лишь об интуитивной способности, которой наделен человек и не наделены алгоритмически организованные устройства. Но это не так. В утверждении о наличии никогда не засыпающей и не теряющей полноты мгновенного бдительного присутствия ипостаси интеллекта, из состояния внутренней тишины, безмолвия взирающей на «игры разума» (даже заблуждающегося), есть нечто большее, чем функционал интуитивных подсказок. Это большее — констатация более высокого измерения в когнитивной архитектонике естественного интеллекта, измерение, которое, пребывая как бы над миром человеческих страстей, заблуждений и ошибок, всегда точно знает истинное положение вещей и сохраняет пре- емственность личностной идентичности Homo creator. При этом данная инстанция не критикует и не вмешивается даже в ошибочно полагаемое, позволяя всему реализующемуся быть, принципиально этим отличаясь от стилистики работы человеческого эго.
Таким образом, в операциональном поле решающего творческую задачу разума имеется динамика, которая ресурсами искусственных устройств воспроизведена быть не может, т.к. в своем основании имеет внутренне противоречивую интендированность отказа от собственной идентичности (что предполагается стилистикой in-gignere) и в то же время ее сохранение на уровне более высокой, чем оперативный интеллект, размерности. И поскольку основанием подобного вывода служит не апелляция к слабостям и несовершенствам нынешнего уровня развития исчисляющего потенциала ИИ-устройств, а указание на внутреннюю противоречивость противоположного допущения, данный вывод может быть экстраполирован на будущее положение вещей.
Выражение признательности
В статье представлены результаты исследований по мега-теме «Познавательная деятельность человека в перспективе эпистемологии, логики и когнитивных исследований», выполненных в рамках гос. задания (2025–2027 гг.) Института философии РАН.
Acknowledgements
This article presents the results of studies on the mega topic «Human cognitive activity from the perspective of epistemology, logic, and cognitive research» carried out as part of the state assignment (2025–2027) undertaken by the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.