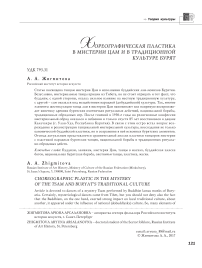Хореографическая пластика в мистерии Цам и в традиционной культуре бурят
Автор: Жигмитова Арюна Арсалановна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 6 (80), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена танцам мистерии Цам в исполнении буддийских лам-монахов Бурятии. Безусловно, мистериальные танцы пришли из Тибета, но не стоит отрицать и тот факт, что буддизм, с одной стороны, оказал сильное влияние на местную традиционную культуру, с другой - сам оказался под воздействием народной (добуддийской) культуры. Так, многие элементы жестикуляции танца лам в мистерии Цам напоминают или напрямую воспроизводят кинетику древних бурятских охотничьих ритуальных действий, национальной борьбы, традиционных обрядовых игр. После гонений в 1930-е годы на религиозные конфессии мистериальный обряд оказался в забвении и только спустя 85 лет восстановлен в дацане Калачакры (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). В связи с этим остро встал вопрос возрождения и реконструкции танцевальной мистериальной культуры, воссоздания не только канонической буддийской пластики, но и сохранения в ней исконных бурятских элементов. Отсюда актуальным представляется сравнительный анализ пластики танцоров мистерии с пластикой народных бурятских танцев, национальной борьбы и традиционных ритуально-обрядовых действ.
Буддизм, ламаизм, мистерия цам, танцы в масках, буддийская пляска богов, национальная бурятская борьба, охотничьи танцы, пластика, маски
Короткий адрес: https://sciup.org/144161117
IDR: 144161117 | УДК: 793.31
Текст научной статьи Хореографическая пластика в мистерии Цам и в традиционной культуре бурят
В конце XVII века в Бурятию прошёл буддизм, точнее, его позднее северное направление – ламаизм. Направление сложилось в XV веке в традиции Гелуг-па, главой которой является Далай-лама (лама «мудрости» – почитается как воплощение Авалокитешвары). С приходом ламаизма на территорию Бурятии связано развитие многих видов художественной деятельности: литературы, музыки, танца, изобразительного искусства. И среди них особое место занимают храмовые представления, прежде всего уникальная мистерия Цам.
Мистерия Цам – один из наиболее красочных театрализованных обрядов в практике ламаизма. Название «Цам» происходит от тибетского слова «чам», что означает «танец». Действительно, пластический, танцевальный язык является одним из главных компонентов мистерии, определяет её визуальную, содержательную и смысловую стороны. По сути, мистерия Цам представляет собой пантомимическую пляску богов, исполняемую буддийскими монахами-ламами, с использованием разнообразных масок. Тибетский Далай-лама V Агваанлувсан- жамц ещё в XVII веке называл Цам танцем «божьей радости».
Мистериальный театр возник в Бурятии в конце XIX века, когда русская администрация дала санкцию на исполнение в Забайкальских дацанах Цам-хурала, полагая, что красочная мистерия увеличит приток богомольцев в буддийские храмы. После гонений в 1930-е годы на религиозные конфессии мистериаль-ный обряд оказался в забвении и только спустя 85 лет был восстановлен в дацане Калачакры (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). В связи с этим остро встал вопрос возрождения и реконструкции танцевальной мистериальной культуры, воссоздания не только канонической буддийской пластики, но и сохранения в ней исконных бурятских элементов. Отсюда актуальным представляется сравнительный анализ пластики танцоров мистерии с пластикой народных бурятских танцев, национальной борьбы и традиционных ритуально-обрядовых действ.
В наше время публичное исполнение священных танцев буддийской мистерии Цам докшитов (Цам в масках) устраивается ежегодно, начиная с 2011-го, в лет- нее время в монастырской ограде, под открытым небом и собирает большое количество верующих из самых отдалённых мест Республики Бурятия.
Сегодня, по словам ламы Буды Цыде-нова, «мистерия Цам докшитов не приурочена к определённым датам. Она проводится летом, поскольку зимой такое представление не покажешь на улице»1. Однако мы можем предположить, что исполнение мистерии раньше было приурочено к поворотным моментам годового круга. Так, Цам докшитов проходил в июне-июле и воспринимался как праздник летней луны (веха, разделяющая год на две части: летнюю и зимнюю). Нужно отметить, что буддийский календарь является лунным, в отличие от солнечного календаря, принятого у христиан, потому не имеет строго определённой даты проведения хуралов, традиционных обрядов и праздников. К летнему времени издавна были приурочены различные традиционные календарные праздники и обряды бурят [см.: 4, с. 43], однако одним из самых ярких праздников летней луны является всё же мистерия Цам – возрожденный хурал в день Майдари .
Майдари2 – праздник, устраиваемый каждое 3-е число последней летней луны. Этот хурал в честь пятого будущего ламы проводится внутри храма и на площадке у входа в него. Скульптурное изображение Майдари ставится в колесницу, в неё впряжен деревянный конь на колесиках, обтянутый плюшем и украшенный богатой сбруей. Шествие лам, музыкантов с инструментами дацанского оркестра, колесницы и мирян совершается вокруг территории дацана (храма), двигаясь (по направлению солнца) по внутреннему периметру монастырской стены. Ламы останавливаются у каждой стены и читают мантры (молитвы). Отсюда и название – «Круговращение Майдари».
На площадке перед дацаном рисуют несколько концентрических кругов мелом или известью, отмечая пространство, где будут танцевать маски мистерии. Круги выступают в мистерии не просто как место действия, прежде всего они отражают традиционную модель мира, в которой круг, сферическая конструкция с обозначенным центром являются едва ли не главной мировоззренческой доминантой, символизируя центр Вселенной и её кольцевидную структуру. Неотъемлемым атрибутом любого дацана является картина «Сансарын Хурдэ» – Колесо бытия. Это мир, у которого нет ни начала, ни конца; символ движения, где нет вечного и постоянного, а есть непрерывная смена состояний. С этим связан и обязательный ритуал: при посещении дацана каждый человек должен пройти по кругу, читая молитвы и вращая круглые барабаны, расположенные по периметру дацана.
В бурятской традиционной культуре круг также имеет особое сакральное значение. Он присутствует в жилище (юрте), приспособленном к быстрой транспортировке, где нет острых углов; в орнаменте национальной одежды; в круговом обходе священных мест; это и круговой танец ёохор, связанный с солярным культом, – танцующие всегда двигаются слева направо по направлению движения солнца.
Буддийская церковь пышно обставляла свои богослужения, используя для этой цели различные виды искусства: живопись, музыку, танец, пантомиму. Понятно, что философия, сюжеты, сама церемония, первостепенные персонажи, костюмы и пр. представляют собой бурятский вариант буддийских религиозных действ. Тем не менее отдельные элементы художественного языка мистерии восходят к традиционной культуре бурят, например, включение интермедий с комическим стариком, особенности обрядового танца, приёмы национальной борьбы, использование народных музыкальных инструментов и мелодий, детали костюма, речевые клише и пр.
Когда предки бурят были кочевым народом, они добывали себе пропитание охотой, рыбной ловлей, собиранием диких съедобных растений. Впоследствии появились первые охотничьи танцы. Охота и скотоводство были одной из форм труда. Охотник должен был хорошо знать повадки зверей, птиц, уметь их выслеживать, метко стрелять. По словам Э. Е. Манзарханова, некоторые движения ритуальных охотничьих танцев стали основой традиционного танцевального рисунка: «… были целые танцевальные циклы – тетериин надаан (танец тетеревов), шонын надаан (волчья пляска), бабгайн надаан (медвежья пляска), hойр надаан (танец глухарей), танцы, связанные с облавной охотой в определённый период [6, с. 97]».
Танец – это ритмически организованное ритуально-игровое поведение, имеющее пластическую форму. В бурятской традиционной культуре охотничьи танцы в первую очередь являлись своего рода тренировкой перед предстоящей охотой, «их целью была мобилизация внимания и воли коллектива охотников, повторение приёмов мастерства, выражение смелости, ловкости, находчивости, наблюдательности при ловле зверя [10, с. 200]». При этом ритуальные танцы наделялись элементом зрелищности, в них явно проступало эстетическое начало. Каждый исполнитель воспроизводил повадки животного, то есть «возникало действие, совершаемое от лица другого персонажа, что является одним из главных признаков театрального искусства [10, с. 200]». Однако не менее важно, что вся культура танца, борьбы, состязаний (кинетическая культура) является особым видом духовной деятельности, в которой пластика человека реализует его представление о мире и самом себе, о формах взаимодействия человека с реальным и воображаемым миром.
В связи с этим стоит напомнить определение мистерии Цам и основы её – танца – уже упомянутым Далай-ламой Агваанлувсанжамц: «Танец – это когда приоритет отдаётся движению рук, цам – это когда приоритет отдается движению ног, гармония – это когда приоритет отдаётся им обоим [цит. по: 3, с. 37]».
В мифологии бурятского народа существуют многочисленные повествования о происхождении тех или иных животных, птиц, что нашло отражение в традиционной культуре бурят и в мисте-риальных масках. Напомним, что в бурятской мифологии богато представлен именно тотемно-генеалогический цикл, в котором утверждается родство людей (родов, этнических групп) с тем или иным животным, птицей, рыбой, вера в спо- собность духов воплощаться в человека, принимать облик какого-либо представителя местной фауны. Так, например, Бык считался прародителем племён эхиритов и булагатов, пестрый Налим – отцом эхи-ритов, от Девицы-Лебедя пошли хорин-ские буряты, Орел – предок первых шаманов [7, с. 197]. К этим представлениям восходят многие обычаи, они нашли отражение в героическом эпосе бурят, в сказках и легендах, а также в традиционных масках мистерии Цам. Можно с уверенностью сказать, что пластика, присущая зооморфным и орнитоморфным маскам мистерии, передаёт знания о пластике этих персонажей, выработанные ещё в охотничьих танцах, и соответствует мифологическому осмыслению поведения тех или иных представителей животного мира.
Особый пластический рисунок присутствует и в национальной бурятской борьбе. Определённые его элементы также связаны или обусловлены ритуальными танцами охотников и бурятской мифологией.
Борьба является важнейшей составной частью традиционной культуры бурят. В течение столетий здесь сложился оригинальный вид единоборства – Бухэ барилдаан . В бурятском фольклоре имеется множество легенд о сильнейших богатырях, состязавшихся не только на праздниках за титул сильнейшего, но и способных дать отпор врагам и злым духам.
Борьба ежегодно проводилась в рамках празднования Нового года по лунному календарю и в летний праздник Сурхарбан (бурятский спортивный праздник). Раньше он назывался «Эрын гурбан наадан» – «Три игрища мужчин», в него входили национальная борьба, стрельба из лука, конные скачки.
Национальная борьба всегда воспринималась не только как развлечение, но, прежде всего, как культовое действо, в котором заложен глубокий сакральный смысл. Эти спортивные состязания стали проводиться и во время дацанских праздников. Участвовать и побороться за звание сильнейшего мог любой желающий. Состязание может длиться от нескольких секунд и до пяти минут. В борьбе допускаются любые борцовские действия с соперником до касания третьей точки выше и ниже пояса. У каждого участника должен быть свой представитель, как правило, это известные борцы в прошлом. Их задача – защищать и давать советы своему борцу, держать его головной убор во время схватки.
Для нас важно отметить наличие так называемого танца Орла, который исполняется перед поединком каждым участником и в завершении – победителем, обходящим поле поединка по часовой стрелке.
Танцуя, борец имитирует полёт птицы, плавно размахивая руками. Одновременно со взмахом рук делается шаг одной ногой, а корпус тела немного наклоняется вперёд, после чего делается небольшая пауза и затем те же движения повторяются при шаге с другой ноги. Борцы кружатся вокруг своей оси, взмахивая руками. Также в их арсенале – стойка на месте, при том что верх корпуса тела поворачивается из стороны в сторону, руки распростёрты на уровне груди, подобно длинным крыльям. В данном танце борцы очень пластичны. Здесь мы можем провести параллель с охотничьими танцами, когда охотник подра- жал своей будущей добыче, птице в том числе. Этот особый язык стал использо- ваться в традиционных играх и танцах бурят. Таким образом борцы показывают свою ловкость и силу, в каком-то смысле выполняя и свой ритуал победителя. Так же как и в охотничьих танцах, перед началом состязания они настраивают себя на победу.
Сравнивая пластику древних охотничьих танцев, национальной борьбы, последующие танцевальные циклы и мистериальные танцы, мы можем говорить о схожести в жестах и некоторых телодвижениях. Так, по ходу разыгрывания мистериального действа своеобразный танец-борьбу демонстрируют персонажи Як (Буйвол, Бык) и Олень. Как и в традиционных охотничьих плясках, их танец основан на скакании то на одной, то на другой ноге, из стороны в сторону1. Руки находятся на уровне груди. Но как только персонажи заканчивают кружиться вокруг себя или скакать вперёд-назад, руки принимают другое положение, совершая махи вперёд. Подражательными можно назвать некоторые позы и движения масок Слона, Крокодила. Во время танца одна нога может быть немного согнута, туловище чуть наклонено вперёд, а руки тем временем направлены вверх2. Улан-Удэ, 2011]. Несомненно, покачивание из стороны в сторону, перепрыгивание с одной ноги на другую, движения рук, или напоминающие взмахи крыльев, или поднятые вверх, призывающие все силы духов к победе, сродни пластике традиционных ритуальных танцев охо тников и проходу борца в
-
1 Мистерия Цам в храме Калачакры: видеозапись (из личного архива автора). Улан-Удэ, 2011.
-
2 Там же.
начале и конце поединка. Подобно тому, как, завершив танец победителя, борец уходит с площадки, и ламы-танцоры, выполнив свою пантомиму, удаляются поочередно в двери дацана (храма).
По сути, те же жесты и движения наблюдаются и у комического персонажа мистерии Цам. Это Сагаан Убгун (Белый Старец) – всеми любимый персонаж народной традиции, который включён в буддийский пантеон богов и является непременным участником мистериаль-ного действа. Он – интермедийный персонаж мистерии, который «разбавляет» все остальные устрашающие и грозные маски. Белый Старец выходит на площадку в характерной для старика одежде – белый халат, монгольская обувь, в руке трость, а маска представляет серобородого и седовласого простолюдина. Его пантомиму сложно назвать танцем, но, тем не менее, там присутствуют те же самые движения – переступы с одной ноги на другую, подпрыгивания со взмахом рук вверх. Разумеется, его неточные и тяжелые движения, трясущиеся руки, бесконечные падения обусловлены ролью и амплуа, установкой на комический эффект.
Антропоморфные маски, изображающие главных божеств (докшитов, гениев-хранителей буддийской веры), духов-покровителей определённой местности, в зависимости от роли и смысла, который в них вкладывался, имели свой рисунок танца. Так, маска докшита Чжамсарана, наделённая тремя глазами, четырьмя клыками, торчащими из открытого рта, требовала особой пластики – это была медленная, торжественная поступь грозного божества. Маски же зооморфные во многом сохраняли
«охотничий» колорит, хотя дополнялись пластикой, обусловленной требованиями театрализованной мистерии. Приведём красочное описание танца Быка и Оленя, принадлежащее Дм. Даурскому: «Под скорый темп музыки бык и олень исполняют быстрый танец, затем приостанавливаются, враждебно смотрят друг на друга и проделывают ряд неприязненных угрожающих движений. С наклоненными головами, яростно потрясая рогами, они готовы броситься один на другого, но … подошедшая маска “хохимая” не допускает. Они, сдерживая ярость, топчутся на месте и, услышав учащённый темп музыки, начинают стремительный танец на внутреннем круге1.
Темпоритм движений масок в мистерии во многом определяется, в отличие от ритуальных танцев, характером музыки, исполняемой буддийским оркестром во время представления мистерии Цам.
Если в бурятской борьбе, например, танец Орла исполняется без инструментального аккомпанемента, под свист, крик и стук ладоней, то мистериальные танцы исполняются исключительно под звуки ламаистского оркестра. Инструментарий не особо разнообразен, но имеет деление на группы: ударные, духовые. В состав традиционного тибетского оркестра вошли такие бурятские народные инструменты, как бишхуур (деревянный инструмент, по типу и звучанию близок к гобою), ухэр-бурээ (большой медный духовой инструмент, представляющий каноническую трубу; традиционно считается, что инструмент предназначен для подражания реву крупного живот- ного – быка [5, с. 29–30]), хэнгэрэг (барабан с деревянным корпусом, обтянутый телячьей кожей; играют деревянными палочками), дэншик (две тонкие медные тарелочки, соединённые ремешками между собой, при ударе друг о друга издают мелодичный звон), дамара (ударный инструмент, состоящий из двух деревянных конусообразных барабанчиков, соединённых вершинами конусов, а широкие стороны обтянуты мембраной; к скрепляющей части привязываются на нити кожаные шарики, которые при встряхивании инструмента ударяются об одну и другую мембраны). Если борцы могут импровизационно позволить себе медленные и затяжные движения, то ламы-танцоры полностью зависимы от темпа исполнения музыки.
Достаточно непростым является вопрос о влиянии шаманизма на пластическую культуру бурятского народа. По мнению ряда исследователей, бурятский героический эпос – улигер (у монголов и бурят – общее название для народных сказаний в жанре героико-исторического эпоса), поначалу исполнялся шаманами. Действительно, в мифологический и эпический материал включены шаманские заклинания, призывы духов, а некоторые, мифологические по происхождению, петроглифы и предметы культа обнаруживаются в рисунках на шаманских бубнах, шаманских онгонах, то есть изображениях антропоморфных духов, и т.д. [7, с. 196–197].
Охотничьи танцы, где исполнители, облачившись в шкуру животного, стремились как можно точнее воспроизвести характер его движений, связываются в этнографической литературе «с верованиями бурятских шаманов, с фигурой ша- мана, который выступал в них как главное действующее лицо … многие из подобных игр и увеселений бытовали в форме шаманской мистерии [1, с. 39–40]».
Можем ли мы утверждать, что определённая пластика рук, наклоны головы или движения ног, характерные для шаманских камланий, были заимствованы бурятскими ламами для исполнения мифологических персонажей мистерии Цам? Безусловно, полного копирования и заимствования быть не могло. Ясно одно: буддизм, шаманизм и традиционная культура бурят, бытуя в одной местности, у одного и того же населения, как привнесли каждый своё, так и вобрали в себя те или иные специфические черты различных областей культуры. Также не нужно забывать, что с искусством национальных танцев, традиционной борьбой и играми, театрализованными праздничными увеселениями буряты знакомились с детства, постепенно, в естественных условиях овладевая всеми тонкостями своей культуры.
Так, борьбой занимались с раннего детства, в каждой, даже самой отдалённой части республики любой желающий, в том числе ребёнок, находясь по ту сторону происходящего, наблюдал и ловил своим взглядом каждое движение борца и одновременно становился соучастником данного мероприятия. Всё увиденное мальчики могли повторить у себя во дворе, подражая взрослым борцам. Немногие продолжали заниматься данным видом спорта профессионально, но в качестве любителя пробовал почти каждый. И что немаловажно: сегодняшние ламы-танцоры являются теми самыми ребятами, которые с детства были включены в традиционную культуру.
Таким образом, не случайна параллель между танцами мистерии, национальной борьбой и танцами охотников. Конечно, мистерия Цам пришла из Тибета, где главный кинетический рисунок, без сомнения, заимствован из тибетских религиозных действ (хождение по кругу, плавное движение лам внутри очерченных кругов, кружение на одной и другой ногах, неподвижная стойка в момент высшего напряжения и сосредоточенности на «роли» и т.д.). В мистерии Цам, в соответствии с религиозным каноном, воплощение образа персонажа (визуальное и кинетическое) строго регламентировано, детально расписаны положения рук, ног, головы, спины при передаче необходимой информации о герое. Исполнители нередко как бы воспроизводят иконографические позы божеств буддийского пантеона. При этом традиции и канон, лежащие в основе практически всех видов искусства Востока, не оставались незыблемыми, они развивались, видоизменялись. И как мы пытаемся показать, движения и жесты танцоров-лам в определённой степени сохраняли элементы традиционной пластики или под воздействием этнической культурной памяти приближали канонические буддийские движения к собственно бурятским тради- ционным движениям и жестам, подвергая всё это мистериальному осмыслению.
Не стоит забывать и тот факт, что ламы-монахи, обучающиеся в тибетских монастырях, в основном были выходцами из Забайкальских степей. Так что закономерно, что в пластике действующих лиц мистерии Цам, в танцах масок (где-то совершенно явственно, где-то завуалированно) прослеживаются элементы народной хореографии и ритуальной борьбы бурят. Это, во-первых, особое положение рук, во-вторых, перескакивания с одной ноги на другую, в-третьих, покачивания всего тела из стороны в сторону.
Кроме того, следует иметь в виду, что бурятская традиционная культура лишь в XVIII–XIX веках «подверглась некоторой переработке ламаизмом, завоевавшим к этому времени ведущие позиции в разных областях жизни бурят, особенно забайкальских. Однако эта переработка часто ограничивалась механической заменой шаманских богов и духов именами персонажей ламаистского пантеона [7, с. 196]», и традиционные многовековые обычаи, обряды, в том числе и особенности национальной пластики, продолжали не только сохраняться, но, видоизменяясь, трансформируясь, влияли на религиозные (ламаистские) действа, в частности, на кинетический рисунок масок мистерии Цам.
Список литературы Хореографическая пластика в мистерии Цам и в традиционной культуре бурят
- Авдеев А. Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Москва; Ленинград, 1959.
- Асалханова М. В. Истоки сценографии бурятского театра: от обряда до первых профессиональных спектаклей: дис.. кандидата искусствоведения: 17.00.01 / Асалханова Марина Викторовна; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. Санкт-Петербург, 2005.
- Батсухийн З., Найдакова В. Ц. Монгольский театр: первая половина XIX века - начало XXI века: краткий очерк. Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2006. 319 с.
- Герасимова К. М., Галданова Г. Р., Очирова Г. Н. Традиционная культура бурят. Улан-Удэ: Бэлиг, 2000.
- Китов В. В. Оркестр бурятских народных инструментов: История оркестрового исполнительства на бурятских народных инструментах: учебное пособие. Улан-Удэ: ИПК ВСГАКиИ, 2001. 320 с.